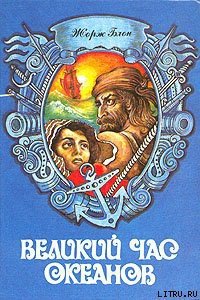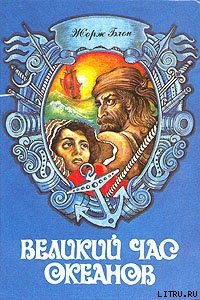Записки морского офицера, в продолжение кампании на Средиземном море под начальством вице-адмирала Д - Броневский Владимир Богданович
По причине штиля и мрачности, ночью принуждены мы были стать на якорь; на рассвете же 10 марта, снявшись с якоря и находясь при входе в залив, взяли два итальянских судна, идущих из Фиуме в Анкону и Сенегалию. Тихие ветры замедляли наше плавание, и как фрегат держался ближе к Далматским островам, то вооруженный баркас был готов для нападения на неприятельские суда, которые могли скрываться в малых и мелких бухтах.
В канале между островом Меледо и Рагузским берегом крепкий противный ветер и гряда камней, находящихся на севере острова Агосты, подвергали нас в ночное время опасности, что и принудило капитана выйти в море; но как тут ветер еще более усилился и фрегат ничего не выигрывал вперед, то 15 марта пришед в бухту Малую Карбони на глубине 35 сажен, грунт ил, стали на якорь. Здесь нашли мы одну тартану. Шкипер по обыкновению приехал на фрегат с своими бумагами, и как он был бокезец, то капитан, возвращая ему австрийские патенты, сказал: твои бумаги не годятся, тебе надобно переменить их на русские. Шкипер, не поняв и подумав, что берут его в плен, побледнел. Но когда ему объявили, что в Катаро развевает российский флаг, что его Отечество свободно, то всякий удобно может себе представить его изумление, радость и восторг. Он тотчас поехал на свое судно, переменил флаг, возвратился на фрегат и просил привесть его с людьми к присяге. После оной, забыв о своей торговле, предложил капитану взять французские магазейны, находящиеся в деревне. К вечеру остановилась возле нас другая бокезская требака, шкипер оной также предложил свои услуги и вызвался быть проводником.
Солнце уже зашло, когда мы положили якорь. Ночь наступила самая темная, к тому ж пошел проливной дождь. Пять гребных судов, из коих два вооружены были фальконетами, с 80 человеками матросов, солдат и бокезцев поручены были мне. В 9 часов отправились мы с фрегата. Вышед на берег, шкипер повел нас близ набережной. Дошед сей дорогой до пристани, поставили тут гребные суда и при них несколько людей, а с остальными тихо вошли в улицу. Бокезцы в темноте не могли сыскать дома, в котором стоял французский капитан, почему принуждены были войти в один ближайший, где светился огонь. Сквозь неплотно притворенную дверь увидели в нем 4 пирующих стариков; они сидели у потухающего огня на очаге; на покачнувшемся столике, пред ними стоявшем, виден был сыр, хлеб и каштаны, один из них держал кувшин в руках, другие, куря сигары, чему-то смеялись. «Бог помочь, добрые люди», – сказал я, входя, они оглянулись и, увидя блестящие штыки и солдат, испугались. «Не бойтесь, мы вам ничего дурного не желаем…» Но они, кажется, меня не понимали и стояли, не говоря ни слова, как оцепенелые. Когда же бокезский шкипер сказал им: «Не страшитесь, братико, то су наши мошкови», то одно сие слово как волшебным жезлом переменило страх их на радость, они ободрились, бросились целовать меня и солдат. Один хотел, чтоб я непременно пил вино, другой, позвав жену и детей, приказал подать все, что у них есть, но когда сказали, что мы пришли взять французов, сын хозяина, схватя ружье, вызвался показать дом капитана и магазейны, старики же пошли предупредить жителей о нашем приходе и, во избежание беспорядка, сказать, чтобы никто не выходил из домов.
Идучи деревней, слышу выстрел, другой, бегу и нахожу, что матросы, оставленные с гардемарином Баскаковым, уже были в доме, однако ж никого не схватили в нем; французы, тут бывшие, выскочили с другой стороны в окна. Жители уверяли меня, что они бежали в крепость, находящуюся отсюда в 6 часах хода. По чрезмерной темноте не могли мы их преследовать, и потому занялись истреблением магазейнов; матросы с помощью жителей нагрузили на две требаки принадлежащие неприятелю несколько бочек вина, водки, сухарей и муки. Остальное, чего не успели взять, отдали жителям, а бочки с красным вином, ведер в 300 и более, стоящие всегда на одном месте, разбили и на рассвете с хорошей добычей и веселыми песнями возвратились на фрегат.
16 марта, когда снимались с якоря, еще взято было судно с богатым грузом. 17-го сильное противное течение, тихий также противный ветер принудил нас спуститься и стать на якорь на 19 саженях глубины, грунт ил, в бухте Большой Карбони. Гавань сия находится между тремя островами Карбони и западной стороной острова Курцола, она закрыта от всех ветров, входы чисты и удобны даже для стопушечных кораблей. 18 марта вышед в море, 20-го по тем же причинам возвратились назад и нашли в порте датский купеческий бриг и корсар под нашим флагом из Катаро, который уведомил нас, что адмирал находится в Кастель-Ново. 21 марта капитан приказал мне отвесть 4 призовых судна в Катаро. Снявшись с якоря, фрегат пошел мористее, а я с своей эскадрой пустился каналом между островом Меледо и матерым берегом.
Северо-восточный ветерок служил нам только несколько часов, пред полуднем стал штиль и прежним от юга волнением немилосердно нас качало. Требака изнемогла под тяжестью, ибо слишком была перегружена, и если бы к вечеру море не успокоилось, принужден бы был разрубить бочки с деревянным маслом, стоявшие на палубе. Солнце закатилось так приятно, как среди лета, море сделалось гладко, как зеркало, небесный свод представлял кристальный купол, усыпанный блестящими звездами, ночь была ясна как день и мы стояли на месте точно так, как будто на берегу. Природа была в совершенном спокойствии, все спали, кроме меня и матроса-итальянца на руле, странным голосом певшего свою национальную песню. Приказав ему как держать и при каком ветре, я завернулся в капот, лег на палубе, проснулся, когда уже рассвело. Требака моя была очень близко берега, так что при легком северном ветре, чтобы войти в канал, трудно было обойти мыс Меледы. Сделав выговор рулевому, который, забыв меня уведомить, решился приблизиться к берегу, я приказал спустить баркас и буксиром скоро вошел в канал. Другая требака, бывшая в том же положении, также на гребле обошла, и вся моя эскадра спокойно плыла вдоль восточного берега Меледо.
Не могу умолчать о добром бокезце Спиридаро, которого дали мне вместо лоцмана с судна, стоявшего с фрегатом в порте Карбони. Он старался показывать себя светским человеком, знал грамоте и, хотя не читал книг, но в Венеции часто посещая театр, декламировал мне Метастазиевы стихи. Я учился тогда итальянскому языку, и он с гордостью толковал мне значение слов. Услужливость его и наблюдение приличий строгой подчиненности утомляли меня, и сколько я ни старался обходиться с ним ласково и без церемонии, он всякое мое слово, стоя всегда по левую руку с почтительным приклонением и в отдалении от меня, принимал за приказания; насилу мог я убедить его, чтоб не целовал моей руки или полы у платья; но от пренизких, весьма смешных поклонов он никак не хотел отказаться. Гаетани, хозяин требаки, когда я уверял его, что он будет отпущен и за провоз груза будет ему заплачено, был спокоен, ласкался ко мне, но не беспокоил излишними учтивостями. С сими людьми я должен был проводить время и, может быть, не скучал бы, если б не был слишком озабочен дурным состоянием всех четырех призов. По причине малых сведений мореплавания моих товарищей, которые кроме компаса, весьма неверного, не имели и карты, недоверчивость бременила меня: я находился беспрестанно на палубе, и если когда от утомления смыкал глаза, то каждую минуту пробуждался и, даже спавши, слышал все, что вокруг меня делали и говорили. Желудок мой также лишен был доброй пищи, но зато имел самую питательную – бобы в лампадном масле с горьким уксусом, черный сухарь и сладкие рожки. Вот какие дорогие блюда, которыми со всей роскошью меня потчевали.
Во весь день слабый ветерок служил нам как нельзя лучше. Вода струилась возле борта, а воздух и море были совершенно покойны. Я сидел на опрокинутой бочке, прикрывавшей вход в каюту, в которой было только места, что две постели, и в веселом расположении разговаривал с Спиридаром, как вдруг ядро пролетело у нас за спиной. Никакой живописец не мог бы выразить удивления наших лиц. Я вскочил, схватил зрительную трубу, осматривал вокруг, матросы глядели один на другого и оставались в том же положении. Другое ядро пролетело над головами, пробило парус. Итальянцы вскрикнули, пали ниц, мои шесть матросов бросились к ружьям и стали заряжать два фальконета. Тогда я увидел маленькую лодку с косыми парусами, которая вышла из-за камней, прикрывающих порт Паоло на Меледе, и шла навстречу мне прямо с носу. Флаг ее за парусами не был виден, три другие требаки, находившиеся близко, по сделанному от меня знаку начали со мной соединяться. Желая заставить корсара думать, что мы мирные купцы, я приказал поднять австрийский флаг и на ялике послал Спиридаро уверить неприятеля, что мы из Триеста идет в Рагузу, между тем, приближаясь, решился окружить и взять его абордажем. Лоцман, не доехавши еще до лодки, воротился и издали кричал нам: «Будьте покойны, г-н начальник, наши! наши!» Я, не зная верить ли тому, продолжал идти. Канониры размахивали фитилями, матросы лежали на палубе с готовыми ружьями и тронбонами. Наконец от лодки отвалил баркас с толпой вооруженных, которые, не приставая к моему судну, спрашивали, точно ли я русский. Я отвечал по-русски, что в том нет никакого сомнения, сказал имя фрегата, откуда иду и прочее. Они, казалось, еще не доверяли; по наречию я уверился, что то были бокезцы; матросы мои начали говорить с ними, и они тотчас пристали. Капитан корсара отличался богатым оружием, он поцеловал мою руку, другие прикасались к полам короткого моего мундира и, подобно Спиридару, кланялись весьма уничиженно. Капитан приносил тысячу извинений, оправдываясь, что, не видя нашего флага, почел нас вышедшими из Курцало и потому неприятельскими. Он уведомил меня, что у Станьо и в порте Зулияно есть французские корсары; чтобы расспросить его о других обстоятельствах, я приказал поднесть всем по стакану вина и предложил капитану проводить меня до Рагузы. Он просил от меня письменного повеления, я написал ему на лоскутке, выдранном из записной книжки, маленькую записочку и приказал держаться ко мне ближе, а ночью подымать на мачте фонарь. Мы расстались со взаимными учтивостями. Бокезцы отвалили и салютовали мне из всех своих ружей, и прокричали «E viva Nostri! Да здравствуют наши!», я приказал выпалить из фальконета и прокричать «ура!». В полдень ветер сделался противный и довольно свежий, мы лавировали успешно во всю ночь. 23 марта утром ветру не стало и течением потащило нас назад. Эскадра моя находилась близ юго-восточной оконечности Меледо; не более как в версте видна была небольшая бухта, окруженная низким берегом. Приятность положения сего убежища прельстила меня, и как бесполезно было держаться в море, а из залива при всяком ветре можно без затруднения выйти, я поворотил в нее и пушечным выстрелом дал знать, чтобы другие требаки следовали за мной. Все 5 судов скоро остановились вокруг меня, и люди сошли на берег. Воды не сыскали, но каштановая роща доставила большое удовольствие моим матросам, они набрали десять мешков большей частью упавших и сгнивших каштанов, находили их вкусом похожими на горох, и один заметил, что по средам и пятницам можно их есть без греха. Бокезцы застрелили две козы и одного барана, принесли несколько дичи, а другие поймали неводом множество рыбы; тотчас развели огни, но ветерок подул, должно было отказаться от роскошного обеда и сниматься с якоря. С веселым шумом вступили мы под паруса, северо-западный ветер установился и мы поплыли на фордевинд очень скоро. Пошед Зулиано, корсар подошел под корму и салютовал мне из всех своих ружей и пушек, и до тех пор возглашал: «Да здравствует Александр!», пока мы не могли слышать их громких голосов; он пошел на свой пост. Ветер служил мне до Старой Рагузы, куда по причине тишины и недостатка воды принужден я был зайти 26 марта.