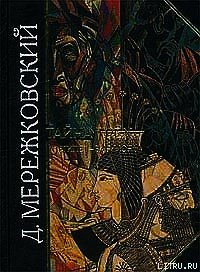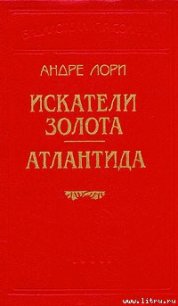Тайна Запада: Атлантида - Европа - Мережковский Дмитрий Сергеевич (книги .txt) 📗
Сердце же его, обнаженное, облекла Деметра новою плотью Вакха Человека, Диониса третьего, земного (первый, Небесный, — Дий; второй, Подземный — Загрей). Так, по одному сказанию, а по другому, — члены растерзанного, но не пожранного Диониса, заключив их в гроб-ковчег, сами титаны передали Аполлону для воскрешения, и тот похоронил их у своего Дельфийского треножника, до дня воскресения. Значит, убийцы раскаялись — поняли, что сделали: не были злы до конца, а только буйны и слепы, как стихийные силы природы. И еще по другому сказанию, сердце Сына, Диониса, проглотил Отец-Зевс, или, растворив, истолченное, в нектаре, напоил им Семелу, Zemla, — третью Деметру, Земную (первая — Небесная, Урания; вторая — Подземная, Хтония), и когда сочетался с нею в любви, родился от нее Дионис Человек (Creuzer, 444).
Мифы на мифы, новые — на древние, как листики слоеного теста или пласты геологических пород, наложены и скреплены так, что ни разделить, ни даже различить их почти невозможно; но чувствуется всюду в этой переслойке смешение новизны с давностью: детская сказка — солнечная рябь на лазурной глади того Океана, где погребена Атлантида.
Так же как звероловы Миносского Крита и цари атланты в мифе Платона ловят сетями жертву-быка, ловят и титаны незримою сетью лжи Дитя рогатое или вологлавое; так же разрубают жертву на части, жарят мясо и пьют кровь. Чем разрубают? Лабрисом, двуострою секирою, — крестом распятого Эроса, знаменьем Божественной Двуполости, потому что и сам Загрей двупол — «крылатая Мужеженщина» (Lobeck, Aglaoph., 547. — Koehler, 13. — Sainte. Croix, Recherches sur lez Mystères du paganisme, I, 205).
Смысл древнего мифа забыт умом, но сердцем помнится, как в вещей памяти снов.
Смутно, как во сне, помнится, что дело идет о конце одного мира и начале другого, но порядок их спутан. Зевсова молния, испепелившая титанов, зажгла всемирный пожар, ekpyrôsis, и в нем сгорело бы все, если бы Океан Атлас не умолил Зевса угасить пожар потопом. Это соединение воды с огнем в гибели первого мира повторяет незапамятно-древний, общий сон человечества, от саисских иероглифов и вавилонских клинописей до древнемексиканских кодексов. Спасся от потопа только один человек первого мира, Девка-лион, в ковчеге, larnax, — вавилонский Атрахазис, израильский Ной (Procl., in Plat. Tim., ар. Creuzer, 409).
Здесь уже связь Дионисова мифа с Атлантидо-потопным так очевидна, что можно только подивиться, как, за две тысячи лет, этого никто не заметил.
Чередование в мифе поздней утонченности с первобытно-дикою грубостью всего удивительней. Многое могли, конечно, прибавить истолкователи-орфики, но не все. Можно, восстановляя по частям целое, как это делают современные ученые, скрепить в один остов разрозненные кости допотопного чудовища, но выдумать его нельзя.
Круглость титанических игрушек — символ «дурной бесконечности» и, губящее младенца Загрея, «живое зеркало», dolion katoptrom, как его толкует Прокл: «В зеркало глянул Загрей, увидел в нем свой образ и, пленившись им, создал по этому образу многообразный мир» (Procl., in Plat. Tim., ар. Creuzer, 409), — от метафизической глубины подобных символов кружится голова и у нас, после «Трансцендентальной эстетики» Канта и теории Эйнштейна; и тут же рядом, как бы озаренный во тьме Ледниковой ночи кострами людоедского пиршества, миф о пожиранье бога титанами. Эти сочетания «эйнштейно-кантовской» отвлеченности с пещерною дикостью напоминают те бретонские «шатающиеся камни», менгиры (pierres branlantes), — исполинские глыбы, установленные способами нам неизвестной, превосходящей всю нашу технику, «Атлантской механики-магии», с такой математической точностью, что достаточно усилия детской руки, чтобы глыба зашаталась, как будто готовая упасть, но не падая: установится опять и простоит, как уже простояла, неизвестно сколько тысяч лет.
И еще похоже на то, что пещерные люди в европейской «колонии Атлантов» подслушали тайны учителей своих, многого не поняли, забыли многое, но кое-что верно, не умом, а сердцем запомнили и, переделав все на свой лад, лепечут смутно, как в бреду, полузвериным, полудетским лепетом.
Уже и древние истолкователи мифа не знают, что с ним делать, и находят в нем смысл, иногда очень глубокий, но не его, а чужой. Вот как толкует его Плутарх, сам посвященный в Дионисовы таинства: «Бог, по природе своей, неизменный и вечный, подвергается, по действию неотвратимого закона („нисхождения“, катода), различным изменениям лица своего… Когда же изменяется, превращаясь в воздух, воду, землю, звезды, злаки, животных, — мудрые называют это „растерзанием“, „расчленением“, diaspasmos, diamelismos; бога же самого называют Дионисом Загреем, Ночным, Nyktelios, Уравнителем, Isodaïtês. Гибели его, исчезновения, смерти и воскресения, palingenesiai, именуются именами сокровенными и баснословными». Это уже метафизика, вместо религии; мертвое, вместо живого, но и в мертвом, как мушка в янтаре, сохраняется главное: «вечность-эон превращений огненных относится к эону стройного космоса, как Один — к Трем» (Plutarch., de Ei apud Delphos, IX. — Welcker, 630). Один — Сын: Три — Троица: жертва Сына совершается в Троице.
«Я изреку двойной закон всего: из многого — единое, из единого — многое», — учит Эмпедокл (J. Girard, Le sentiment religleux en Grèce, 1897, p. 237). Дионис — Isodaitês. Равнодающий, Уравнитель, потому что в смерти уравнивает всех, или потому что равняет, соединяет разделанные части космоса, — учат орфики (Gruppe, Die Griechische Mytologie, 1906, II, p. 1432). «Буйное разъятие, расторжение, есть Дионис; стройное соединение — Аполлон», — по неоплатонику Проклу (Вяч. Иванов. Религия страдающего бога. Новый Путь, 1904, IX, 59). «Смертью богов люди живут», — по Гераклиту (Heracl., fragm. 62). «Бог должен умереть, чтобы жило отдельное, личное. Er selbst muss untergehen, damit das Einzelne Iebe», — по Шеллингу (Schelling, Philosophie der Offenbarung, 469).
Смерть Бога — жизнь мира.
скажет Гете, последний посвященный в Дионисовы таинства.
Вся эта метафизика — серый туман или золотые облака над Океаном, где погребена Атлантида, — от подлинного смысла древнего мифа-мистерии — «атлантской скрижали», дальше, чем та детская сказка — солнечная рябь на воде Океана. Самое же от древнего смысла далекое, как звезды над Океаном, — тот новый религиозный смысл, который находят орфики в Дионисовых таинствах.
Сердце бога, сущее в нас, жаждет воссоединения со всеми остальными частями растерзанного тела его; цель человеческой жизни — окончательное освобождение тлеющей в нас, божественной искры и ее успокоение в Дионисе целостном; злое начало, титаническое, мешает нам, соблазняет нас все к новым воплощениям, «различениям», — ликам и образам; мы рождаемся и умираем, и вновь рождаемся, погребая душу в «тело-гроб», sôma-sêmê; и этому не будет конца, не остановится вертящийся «круг вечности», «колесо рока — рождения», rota fati et generationis, доколе душа не вернется туда, откуда вышла, — в лоно Отца, Диониса Небесного (Ф. Зелинский. Древнегреческая религия, III).
«Кончить круг, отдохнуть от тяжести!» — молятся орфики Дионису Лизею, Освободителю (Greuzer, 470). Мысль о «первородном грехе», progonôn athemistos, — основная мысль орфической теологии. Люди — исчадье титанов, растерзавших бога Загрея, — несут на себе бремя этого «беззакония», adikia, но он же, Загрей, дарует им и «освобождение, искупление древних кар», lyseis palaiôn mênimatôn (S. Reinach. Cultes, Mythes et Religions, II, 75–76). «Мира и Бога единство изначальное расторгнуто виной дочеловеческой, и мир, порожденный этим расторжением, несет на себе казнь за вину», — учит Анаксимандр (Reinach, 1. c. 76).