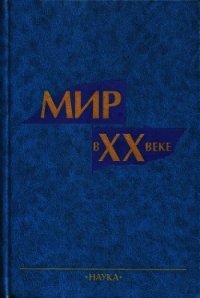Истоки тоталитаризма - Арендт Ханна (читать книги полностью TXT) 📗
У нас поэтому есть все основания для того, чтобы использовать слово «тоталитарный» осторожно и благоразумно. Кроме того, у нас есть все основания быть очень обеспокоенными. Мы являемся сейчас свидетелями первой общенациональной чистки партии в Китае, которая несет явную угрозу массовых убийств. Если эта угроза воплотится в жизнь, то могут создаться условия, столь хорошо известные нам по России времен правления Сталина. Мы не знаем, что привело к такому неожиданному процессу, «которое, как говорят, застало врасплох даже опытных китайских чиновников» (см. статью Макса Френкеля в «Нью-Йорк таймс» от 26 июня 1966 г.), мы не знаем, является ли это следствием тщательно скрываемой борьбы за власть или результатом недавних провалов во внешней политике Китая. Однако истерические заявления об очевидно несуществующей «буржуазной контрреволюции», поддерживаемой и лелеемой «ревизионистами», «антипартийными» элементами внутри партии, «гремучими змеями» и «ядовитыми сорняками» среди интеллигенции, могут легко привести к такой же смене режима, какая, подобно «второй революции», устранила диктатуру Ленина и установила тоталитарное правление Сталина. Подобные наблюдения тем не менее по-прежнему являются просто предположениями, а фактом остается то, что о Китае, как и раньше, известно меньше, чем было известно о России в ее худший период. Было бы слишком самонадеянно пытаться дать анализ нынешней формы правления в Китае уже потому, что она еще не установилась.
В разительном противоречии со скудностью и ненадежностью новых источников фактического знания о тоталитарном правлении находится огромный рост за последние 15 лет числа исследований любых вариантов новых диктатур, будь они тоталитарными или нет. Это, конечно, в особенной мере верно относительно нацистской Германии и советской России. Сейчас есть много работ, которые действительно незаменимы для дальнейшего исследования и изучения предмета, и я предприняла всевозможные усилия для соответствующего расширения моей прежней библиографии. (Во втором — в бумажной обложке — издании не было какой-либо библиографии.) Единственный вид литературы, которую я, за немногими исключениями, намеренно оставила без внимания, — это многочисленные мемуары бывших нацистских генералов и функционеров высокого уровня, опубликованные после войны. (Тот факт, что этот род апологетики не блещет честностью, вполне очевиден и не может служить достаточным основанием для исключения его из сферы нашего внимания. Однако поражает отсутствие в этих воспоминаниях какого-либо понимания того, что в действительности произошло, а также той роли, которую играли их авторы в событиях того времени. Это лишает указанные воспоминания всякого интереса, кроме разве что психологического.) Кроме того, я добавила в список литературы к частям первой и второй несколько новых важных работ. Наконец, в целях удобства библиография сейчас, как и сама книга, разделена на три отдельные части.
II
То обстоятельство, что книга была задумана и написана давно, оказалось, если подходить с точки зрения свидетельств и источников, менее серьезным недостатком, чем можно было бы вполне обоснованно предположить, причем это верно относительно материала, связанного и с нацистской, и с большевистской разновидностями тоталитаризма. Одна весьма своеобразная особенность литературы по тоталитаризму состоит в том, что очень ранние попытки современников написать его «историю», попытки, которые, если руководствоваться академическими стандартами, были обречены на неудачу вследствие отсутствия безусловно надежных источников, а также вследствие чрезмерной эмоциональной вовлеченности, на удивление, хорошо выдержали испытание временем. Биография Гитлера Конрада Хейдена и биография Сталина Бориса Суварина, написанные и опубликованные в 30-е годы, в некоторых отношениях более точны и почти во всех отношениях адекватнее истинному положению дел, чем стандартные биографии Алена Буллока и Исаака Дейчера соответственно. Тому может быть много причин, но одна из них совершенно определенно заключается в том простом факте, что документальный материал в обоих случаях преимущественно подтверждал и дополнял то, что уже давно было известно от крупных перебежчиков и других непосредственных свидетелей.
С некоторой степенью огрубления можно сказать: нам не нужен был «Секретный доклад» Хрущева, чтобы узнать, что Сталин совершал преступления или что этот будто бы «болезненно подозрительный» человек решил довериться Гитлеру. Что касается последнего обстоятельства, то ничто лучше, чем такое доверие, не доказывает, что Сталин в действительности не был душевнобольным. Он был оправданно подозрительным по отношению ко всем людям, которых он хотел или готовился устранить, а это были практически все в высших эшелонах партии и правительства, и он естественным образом доверял Гитлеру, поскольку не желал ему зла. Что же касается первого обстоятельства, то поразительные признания Хрущева в силу той очевидной причины, что присутствующие в аудитории и он сам были в полной мере вовлечены в действительно имевшие место события, скрывали гораздо больше, чем обнаруживали. Эти признания имели неожиданный результат: в глазах многих (и конечно же в глазах ученых с их профессиональной любовью к официальным источникам) они преуменьшали неслыханно преступный характер сталинского режима, который, в конце концов, заключался не столько в оклеветании и убийстве нескольких сот или тысяч крупных политических деятелей и деятелей искусства, которых можно посмертно «реабилитировать», сколько в уничтожении в буквальном смысле бессчетных миллионов людей, которых никто, даже Сталин, не мог заподозрить в «контрреволюционной» деятельности. Оставляя неосужденными некоторые преступления, Хрущев как раз и скрывал преступность режима в целом. И именно против такого камуфляжа и лицемерия нынешних правителей России — все они были подготовлены и выдвинуты при Сталине — почти открыто выступают сегодня представители более молодого поколения русской интеллигенции. Ведь они знают все, что можно знать, о «массовых репрессиях, выселении и уничтожении целых народов». [5]
Более того, объяснение, данное Хрущевым тем преступлениям, которые он признал, — болезненная подозрительность Сталина — скрывает наиболее характерный аспект тоталитарного террора, заключающийся в том, что его развязывают, когда уничтожена всякая организованная оппозиция и тоталитарный правитель знает, что ему уже нечего опасаться. Это особенно верно относительно того, что происходило в России. Сталин начал свои гигантские чистки не в 1928 г., когда признал, что «у нас есть внутренние враги», и когда действительно имел основания чего-то бояться (он знал, что Бухарин сравнивал его с Чингисханом и что тот был убежден: политика Сталина «вела страну к голоду, разрухе и полицейскому режиму»), [6] а в 1934 г., когда все бывшие оппозиционеры «признали свои ошибки» и сам Сталин на XVII съезде партии, названном им также «съездом победителей», заявил: «…на этом съезде — и доказывать нечего, да, пожалуй — и бить некого». [7] Нет никакого сомнения ни в сенсационном характере, ни в решающем политическом значении XX съезда партии для Советской России и для коммунистического движения в целом. Однако это именно политическое значение; свет, который проливают официальные источники после сталинской поры на то, что происходило в предшествующий период, это не свет правды.
Если говорить о нашем знании сталинской эпохи, то публикация Файнсодом смоленского архива, которую я уже упоминала, остается, несомненно, самой важной публикацией, и очень жаль, что за этой первой, во многом случайной, выборкой до сих пор не последовали более обширные публикации данного материала. Судя по книге Файнсода, мы можем многое узнать о борьбе Сталина за власть в период середины 20-х годов: нам сейчас известно, насколько шатким было положение партии, [8] причем не только потому, что дух открытой оппозиции преобладал в стране, но и в силу того, что партию разъедали коррупция и пьянство; отчетливо выраженный антисемитизм сопровождал почти все требования либерализации; [9] движение за коллективизацию и раскулачивание, начавшееся после 1928 г., в действительности прервало нэп — новую экономическую политику Ленина, а вместе с этим прервало начавшееся примирение между народом и его правительством; [10] этим мерам яростно и единодушно сопротивлялся весь класс крестьянства, решивший, что «лучше не родиться, чем вступить в колхоз», [11] и не соглашавшийся быть разделенным на богатых, середняков и бедняков для того, чтобы его подняли против кулаков — [12] «есть кто-то, кто хуже этих кулаков и кто думает только о том, чтобы затравить людей»; [13] ситуация была не намного лучше в городах, где рабочие отказывались сотрудничать с профсоюзами, находившимися под контролем партии, и называли представителей руководства «отъевшимися чертями», «лживыми паразитами» и т. п. [14]