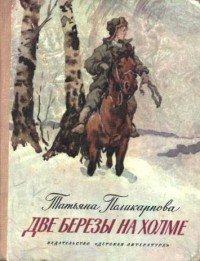Женщины в лесу - Поликарпова Татьяна (полные книги .txt) 📗
— Ах, — говорю, — Нюся! Как вы все чувствуете! Видите… Вот так бы с вами…
— Нет, — прерывает она меня резко, — я уже говорила вам, Петя: ничего не чувствую. Я просто вас развлекаю. Надеюсь, понятно. — И так сухо, резко. Морозом на меня дохнуло. Съежился я. Стерпел. Не мог я прямо ее спросить: мол, скажите, Нюся, и я не стану звонить, проситься в гости. Я знал, она ответит: хорошо, не надо. А я надеялся на время. Ведь наше знакомство только начиналось. Я надеялся растопить ее своей искренностью. Доверчивостью. И неизменной нежностью. Ведь порвать с человеком очень легко. Поломать, разбить — это ж и дурак сможет. Я видел: она человек надежный. И добрый. Несмотря на свою насмешливость и колючесть. Это все так, оборона. Недаром же я читал Экзюпери: все время вспоминал его притчу о цветке, у которого и было-то всего оружия — один несчастный шип. Что мне ее уколы — стерплю… Преодолею. А нет — так просто хоть изредка побуду рядом с человеком, которому я могу сказать о себе почти все. Сам не знаю, почему меня так тянет на откровенность с нею… И в тот раз все, что в ту минуту передумал, я выложил ей в таком вот виде:
— Нюся, я очень глупо себя веду, а? Плохой я. Ужасно вам надоедаю!
А она остановилась и аж руками всплеснула:
— Господи! Чего вам, Петя, неймется! Что вы все себя клеймите! Что ж вы думаете, я вас пожалею, полюблю, если вы будете мне твердить, какой вы глупый и плохой?! Нет, пойдемте, я вас провожу к метро…
Вы только подумайте: она еще меня проводит! Раздражившись, рассердившись, негодуя! Не ангел ли?..
— Эх, чего же я наделал, — говорю. — Сам себе все время порчу жизнь… Но, Нюсенька, только потому, что не могу отделаться от ощущения: вы — человек, все понимающий и видящий. Даже когда раздражены! Когда сердитесь на меня!
Но она промолчала.
А во второй раз так вышло — позвонил, говорю:
— Тут я, возле вашего метро… Хочется увидеть вас, Нюся.
— Да стираю я… — отвечает, но нерешительно так.
— Ну и что, — говорю, — мне бы увидеть вас. Не помешаю… Очень уж на душе муторно…
— Опять муторно? — И рассмеялась. — Ну раз так… Заходите.
Ах, думаю, смеется, в хорошем настроении. Но эти женщины… Даже самые лучшие. Не поймешь, отчего у них вдруг все меняется. Настроение их. Действительно, «как ветер в мае».
Прихожу, она весело мне говорит, что главное уже все сделала, белье сейчас докипит и можно пойти прогуляться. Выварка на плите у нее клокотала, кипела.
— Прекрасно! — воскликнул я. — Прекрасно, Нюсенька!
А сам подумал: нет, не может быть, чтобы одинокой женщине не нравилась моя преданность! Ведь вот — довольна!
Рассказываю ей, отчего у меня на душе сегодня особенно тяжко: как-то вдруг увидел свою жизнь всю враз, словно в книге прочел… И увидел, что бестолково все как-то, без стержня, а ведь есть у меня идея… Почему же не мог я послать все к чертовой матери и заняться любимым делом?
Стоял я в дверях кухни, маленькая кухонька, как обычно в этих наших девятиэтажках, а она у плиты, белье помешивала.
— Ну, все, — говорит, — готово. Снимаю…
Чуть помедлила, будто с силами собиралась, и этот бак с бельем принимает на себя, и с этим баком так быстро переступает, чуть ли не несется прямо на меня. Я и не знаю, куда мне податься, места мало, не разойтись в дверях, растерялся. А она мне с натугой:
— Петя… С дороги… Да назад, назад…
Я и отскочил в коридорчик. Уступил дорогу. А она бак — прямо на пол в коридорчике перед дверью в ванную и сказала только:
— Хоть бы дверь догадался открыть…
Опрокинула бак в ванну, открыла воду, а сама пошла переодеться. Проходя мимо меня, так весело на меня глянула, близко в лицо посмотрела. Весело, но ох как недобро! А лицо все розовое от пара, как у девушки.
— Петя, — говорит, — со стиркой вышло — лучше не придумаешь! Какой получился тест! С дороги-то как вы метнулись, а?
И прошла. А я ей вдогонку кричу:
— Нюся, так я же очень послушный! Меня так воспитали. Я слушаюсь женщин с первого слова!
Выходит она в чудном платьице: синее в белый горошек — любимая моя расцветка, а ей как идет — чудо! И мы пошли гулять.
На улице она меня спросила:
— Что, жена приучила слушаться?
— Да, все она, будь неладна! — в тон ей отвечаю, весело.
И тут Нюся останавливается, поворачивается ко мне и начинает свою речь. Спокойно и размеренно. И помню я эту ее речь всю от слова и до слова.
— Петя, — сказала она, — мне надоело слушать ваши жалобы. Всякие. Но особенно на жену. Кое о чем я с самого начала догадывалась, а сегодня, мне кажется, я вас поняла хорошо. И вас, и стиль вашей семейной жизни. Давайте договоримся: вы должны прекратить всякие жалобные речи. Если вам действительно жить по-прежнему невмоготу — уходите… Снимайте жилье. Платите втридорога. Вкалывайте. Совсем оставьте жене квартиру. Потому что нет ничего более жалкого, чем мужик, который ноет и жалуется, а сам и пальцем не шевельнет, чтоб изменить свою жизнь. Уверена, что жена вас нянчит как несмышленыша, потому вы и слушаетесь ее. Разве не так, Петя? Я готова вам помочь — о квартирах поспрашивать. Но не собой помочь… Понятно?
Как она это говорила… И какой был у нее вид… Хоть бы гневалась. Так нет… Смотрит, широко открыв глаза, и холодно, и в то же время словно бы с болью…
Это я теперь, лежа врастяжку, осознал, вспоминая. А тогда замерло все во мне, окостенел я от ужаса, понимая, что вот и конец моим надеждам на Нюсю… На человека… Нет, видно, их, человеков, среди женщин. Раз уж она, Нюся… Так жестоко…
Она и еще тогда говорила… Как раз о женщинах.
— Мне, — говорит, — Галка рассказывала, что вас, Петя, женщины любили и баловали… Что ходок был Петя… Петушок… Тот еще… Так неужели не успел понять женщин, а, Петя? Женщине мужчина нужен, ребенка она сама родить может… Да ребенок хоть растет, делается помощником, товарищем… А взрослый ребенок — это ведь, Петя, очень тяжело! Тем более для одинокой женщины. Думаю, что жена как раз и любит вас, как никто не любил и не полюбит, раз столько времени с вами. Подумайте-ка… И не ищите вы других ангелов. Ваш ангел при вас…
Вот так все и кончилось.
Приехал я домой окостенев. Звенели у меня в ушах безжалостные Нюсины слова. А перед глазами — глаза ее с холодной какой-то жалостью. Как к приговоренному: и жалко, и помиловать нельзя. Неужели она еще жалела меня? Да разве если жалеешь, гак оттолкнешь человека? И, вспоминая ее «ваш ангел при вас», корчился я от унижения. И постепенно овладевало мною крайнее отчаяние…
Выход был один-единственный: бежать. «Все. Точка, — решил я. — Еду куда глаза глядят. К черту все. Всех баб. Я сам человек…» Но пока я созревал в этом своем намерении, прошла неделя и две. Грипп подхватил. И наконец — бум! — радикулит.
И вот склоняется надо мной тигриная морда со шприцем. И меня выхаживает жена. Мой ангел. И я не чувствую в себе даже тени недавней отваги. А вместо отчаяния — лишь тупая ноющая боль в пояснице.
«А ТЫ, ПЕТРОВА…»
(Рассказы попутчицы)
I
ПОЧЕМУ ОНА ПЕТРОВА
Послушаешь ее, и выходит — все к ней только так и обращаются: «А ты, Петрова…» И подруги по бригаде — она штукатур-маляр, бригадир; и начальство ее и строительное, и профсоюзное; и врачи в больнице, словом, все, имеющие с нею дело.
А вообще-то зовут ее Зоя. Зоя Петровна Петрова. Это не совпадение какое — отчество ее и фамилия. Родом она из-под Пскова, а там у них, по ее словам, долго велось по-старинке: фамилию писали по отцову имени. У кого отец Василий — Васильевы, у кого Иван — Ивановы. Ну а вот они — Петровы…
Тут Зоя Петровна прервала свой рассказ и засмеялась, словно все, что она сказала, было шуткой, и объяснила:
— А я и вообще двойная Петрова: мой отец был Петр Петрович Петров. Нашего деда то ли забили, то ли застрелили, то ли сам он умер в лагере. Никто того не знает. Кулачили тогда, в двадцать девятом году. Знаете, наверное. Теперь пишут… Вот и наших всех, всю семью, погнали. Да бабка моя родить начала. Ее с того кулацкого поезда и сняли. Так она и жить осталась, и сына сохранила. А назвала в память о муже. Вот такая я, значит, вышла двойная Петрова!