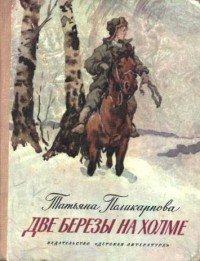Женщины в лесу - Поликарпова Татьяна (полные книги .txt) 📗
— Как же я мечтаю хоть конец жизни пройти с человеком, понимающим тебя, твое душевное дело!
— Все мечтают, — сказала она каким-то вдруг низким скрипучим голосом.
Вдруг жену свою услышал… Ужас! Неужели… Глянул, а она смотрит на меня и словно хохочет беззвучно. Глаза хохочут.
— Слава богу! — прошептал я как глубоко верующий. — Было так ужасно, так ужасно, Нюся, услышать этот ваш голос? Я содрогнулся! Я услышал голос своей жены!
Тут уж она вслух рассмеялась, даже голову закинула, а потом уронила и резко смех оборвала:
— А, значит, это жена вас не понимает? Из близких-то?
— Не то слово, — говорю, — просто враг мой. Ужасный. Губительный. Ну ладно, музыка ее раздражает. А трубки? Спокойные, молчаливые курительные трубки? Знаете ли, я их коллекционировал. Большая уже коллекция собралась. Ценность немалая. Она взяла и продала! «От тебя, — говорит, — толку нет, мало зарабатываешь, да еще сколько на это баловство извел». А разве мало, Нюся, двести двадцать рублей? Да ведь и трубки я собирал, в основном пока холостой был!
— Ой-ё-ёй! — Нюся аж руки свои стиснула и подняла их к подбородку. Ах, какой потрясающий жест! Такой детский! — Как же вы могли допустить, чтоб она смогла это сделать! — С болью такой воскликнула, с болью, сближающей нас.
— Она еще и не то может, — ободрился я Нюсиной искренней болью. — Может, например, меня из дому выгнать. Не откроет дверь, и все.
— А у вас ключа нет? — замирающим голосом спросила Нюся.
— Есть, но она на крюк запирается. Такой дли-и-инный крюк! А стучать — соседей будить неудобно. Я ухожу к дочери. Хоть и перед ней стыдно.
— Ну а совсем к дочери уйти?
— Так замужем она. И ребенок. Не хочется еще их жизнь стеснять.
— Ай, Петя, что-то туг не так! Должен быть выход! Размен, в конце концов. Значит, все-таки не так уж плохо все у вас с женой.
Как объяснить человеку, что плохо, совсем плохо?
— Менять квартиру, говорите, Нюсенька. Думаете, не прикидывал. Но она желает отдельную однокомнатную. А я на старости лет не хочу в коммунальную комнатушку.
— Н-да, — говорит Нюся и головой задумчиво так покачивает.
— Но это все ерунда теперь, Нюся, — воскликнул я, опять подивившись на ее удивительное лицо: то свет льет, то темнеет. — Теперь я о тебе буду думать!
Ах, неосторожно у меня это «тебе» сорвалось. Она надменно дала мне понять:
— Ну, если это вам поможет…
Выделила «вам» голосом.
Все же два раза успел я побывать у нее в гостях. Первый раз она пирожки жарила. Ловко так. Сама в коротеньком сарафане. Летом было. Такая вся как девчонка крепкая, что ноги, что руки. Гораздо моложе показалась мне в этот раз. Дочка у нее лет пятнадцати. Все заглядывала на кухню. Наверное, хотела подстеречь что-нибудь интересное. Может, и нет. Так, пирожков ждала. Чего там — подстеречь: Нюся на меня и не смотрит. Беседу поддерживает междометиями: «Ну?» «Ах так…» «Да-а уж…»
Я старался не молчать. Рассказывал ей, как в обед пришлось в школьном буфете съесть только одну холодную котлету. Гарнир — в рот не возьмешь. Хлеб черствый… В желудке сразу закололо, даже в сердце отдает.
— Бледный я, наверное? — спрашиваю.
— Да уж, бледноват, — признала. — А что, с женой немая война?
— Она у нас почти без перемирий, — говорю. — Недавно с сердцем стало плохо, так не пошла даже неотложку вызвать. Телефона у нас нет, к автомату приходится выходить.
— Ах, — говорит, — бедный Петя, но сейчас пирожки будем есть. Любите с молоком?
— Нет, — говорю, — лучше с чаем. У меня от молока пучит живот. Жена мне тогда мяты заваривает. А у вас, наверное, нет мяты.
— Ни мяты нет, — говорит, — ни чаю. Придется с молоком. А то как с одной котлетой в желудке жить, да и той холодной… А мяты потом у жены возьмете… Или под замком? — Смеется надо мной, грешным…
Но все же нашлось у нее немного заварки. Сделала она мне чашку чаю.
Сидели мы, и дочка тут же с нами, так хорошо, посемейному. Я им рассказывал, отчего у меня с сердцем сделалось плохо в последний раз. Завуч ко мне цепляется, что я одной из учениц «тройку» в четверти вывел. А уж эта ученица — кошмар!! Тупица сама по себе, да еще и делать ничего не хочет. Завуч потребовала все ее сочинения и представьте, какая наглость! — утверждает, что оценки занижены. Ошибок-де не на «тройку» — можно «четыре» поставить. А там же ни одного живого слова! Все списано прямо с учебника. Дословно! А вся загвоздка в том, что родители девицы за границей и, говорят, завучу и директору привозят хорошие сувениры.
— А вам нет? — дочка спрашивает.
Тут Нюся ее отослала: поела, мол, и иди к подружкам. Она пошла, а из коридора мне язык показала. Шаловливая девочка. Если что, нам с ней трудно бы пришлось. А она от двери еще прокричала: «Мам, до вечера! С сочувствием к тебе, твоя дочь Аня!»
— Почему с сочувствием? — спрашиваю Нюсю. Наконец она засмеялась очень весело:
— Это у нас так принято, формула такая, когда настроение хорошее…
— А если плохое?
— То без сочувствия… — И хохочет.
— Интересно! — говорю. — Забавно! Нет, правда, с юмором. Хорошо, дружно живете! Это ж видно. И даже зовут вас одинаково: Нюся, Аня — это ж Анна?
— Да, угадали. Так мужу хотелось, — говорит.
— Это значит, так он вас любил, Нюся.
— Значит, так.
От знакомой своей, от Галки, я уж знал, что мужа у Нюси нет давно, разошлись. Я еще подивился: как можно было такого светлого ангела оставить, да еще с дочкой… Я это и высказал тут, извинившись, что, может, зря говорю, неприятно это ей вдруг. А Нюся не рассердилась. Сказала только:
— Ангела как раз легко оставить. У него когтей нет. Не цепляется. Не страшно. Взмахнул крылышками и полетел себе.
Сердце мне сжало. Я не удержался и признался ей:
— Я так люблю вас, Нюся. Никого еще вот так, как вас, не любил. Так чисто и так всецело.
А она отшутилась.
— Это, — говорит, — у вас от пирожков, вероятно. — Но сразу же и посерьезнела: — Знаете, Петя, если б любили, я бы непременно почувствовала. А ведь ничуть не чувствую. Ни на крошку.
— Я не виноват, — говорю, — но что люблю — правда. Все время хочу видеть вас.
— А звоните раз в полгода. Разве это любовь? Знаете нынешнюю поговорку: «Если звОнит, значит, любит!» Вот как! — смеется.
— Я же вижу, Нюся, что вы меня только терпите… Ведь терпите? Потому и стараюсь меньше вам надоедать. И боюсь лишний раз позвонить. А мысленно все время с вами разговариваю…
А правда ведь… Позвонишь, она отвечает коротко, явно ждет, когда я трубку положу. Я уж стараюсь без пауз все ей выложить. Расскажу, чем занимался. Ремонт, так о ремонте. Или о дочке: она у меня болезненная, часто простуживается… Но очень одаренная в математике. Это ведь редкость: женщина в математике. Разовью мысль о таланте и воле… Опять намекну о своем одиночестве. Я знаю, такие, как Нюся, — жалостливые натуры. А где жалость — там любовь. Все-таки надеялся я… Хоть и чувствовал, что ждет она, когда я начну прощаться. Кончу свои рассказы. Но я эгоистически продолжал! Потому что одно сознание, что она там, на том конце провода, держит трубку, слышит мой голос, что нас соединяет эта вот минута, меня утешало! Сейчас могу точно сказать: утешало…
Да, а тогда, после пирожков с чаем, она ведь со мной гулять пошла… Зелень, лето, и мы с ней… Вдвоем. Два одиноких человека. Неужели, думал я, ей не тоскливо одной? Без друга? Почему так думал? Глаза грустные — вот почему. Только и были сияющими, когда мы первый раз встретились. А потом даже тоскливые стали. Ну и, признаться, та моя знакомая, Галка, мне говорила, что никого нет у Нюси. Это точно. Она бы знала. Я же Галке в первый же вечер звонил: объяснил, что влюбился. И спросил, как, мол, там с этой стороны.
Гуляли мы по каким-то зеленым задворкам. Знаете, эти новостройки все в зелени. Нюся показывала мне свои любимые заросли.
— Видно, — говорит, — какой-то любитель из жильцов старался, навез отовсюду растений. Вот куст — я и не знаю, что это за зверь… У нас таких нет… Не наш, а прижился… Видите? И виноград у него, и плющ, как во Франции, по стене ползет. А смотрите, как подобраны деревья… С расчетом на осень. Вот мелколиственный клен: осенью он — чистая киноварь. Рядом — береза, она будет золотой. Дальше — вяз. У него осенью листья как железные, покрытые окалиной: сизо-малиновые, будто недавно из горна…