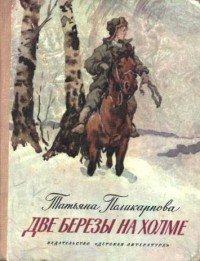Женщины в лесу - Поликарпова Татьяна (полные книги .txt) 📗
Антон где мог подкупал, конечно, и нового. По соседним деревням мотал: не продаст ли кто старый дом или хоть сарай на слом, а то и новый лес попадется. Припасли его хозяева на ремонт загодя, когда могли, да вдруг в город подались — случай вышел. Вот и продают…
Много было надобности у Антона еще до начала строительства. За этими-то предварительными приготовлениями и приходил в себя. Отряхивался, ощипывался, глаза шире открывались.
Потом начиналась расшивка, рассыпка стен дома или сеней, потом надо было котлован рыть под фундамент пристройки. Рыл он его поглубже, рассчитывая на подпол.
На земляных работах сходил с него первый пот, выпаривалась алкогольная отрава. Так что к самому-то плотницкому делу подбирался он уже хорошо размявшись.
К тому времени все было у него припасено и налажено для работы: верстак и точильный круг тут же во дворе; пакля для проконопачивания и вся столярка укрыты в сарае, как и разная железная мелочь и гвозди — каждый размер в своем ящичке, чтоб уж ни за чем не отвлекаться, не рыскать за тем-сем по дворам соседским да магазинам.
И работал же Антон! Будто Богу молился. Да не вымаливал чего, а благодарил радостно: за то, что молод и силен; за то, что глаз острый, а рука в точку бьет; за то, что чувствует он, как, что ни день, очищается его кровь в работе, звончей бежит по жилочкам, и все легче и ловчее топор, и спокойней сердце…
Каждый день: до смены — с первым светом, после смены — дотемна, в воскресенье чуть ли не двадцать часов подряд — Антон на своей стройке. Обнаженный по пояс, он темнел от загара, а глаза и волосы высветлялись вовсе. Худел так, что видно было, как ребрышко каждое играет в работе, а плечи и руки набрякали силой. Сосредоточенный, сноровистый, быстрый. Где его кошачья расслабленность, с какой сидит он, покуривая, на своем крыльце? Куда деваются безумие и детская капризность? Вот он, настоящий Антон Моржов, сам себе хозяин, мужик, своими руками обустраивающий свое семейство.
Тоня жила в эти месяцы затаившись: как бы не спугнуть Антонову страсть к работе. И боялась немножко за него — не сорвался бы, не заболел бы. Помогать не напрашивалась, под руку не лезла. Внешне держала себя так, будто ничего особенного не происходит, самое это обычное для ее мужа дело — ладить дом для семьи.
Только старалась кормить посытнее. Но в это время Антон, и так не бог весть какой едок, еще меньше ел от азарта и усталости. А вот что любил он в эту пору, так в горячей баньке посидеть, с веничком побаловаться, а потом — в Клязьму. Благо она через дорогу. Проулком между огородами, и вот уж береговая круча — ныряй на здоровье.
Тоня старалась почаще баню топить.
Счастливей, чем в пору первого Антонова аврала, она не была и, наверное, больше не будет. Все тут сошлось: гордость мужем, счастье возвратившейся его любви, да и за себя радовалась, перетерпела, перестояла грозу и семью сохранила. Правда, одна бы, может, и не выдержала: матушка помогла.
В тот первый после женитьбы раз пошел Антон частить к их соседке, разведенке, — дом ее наискось от двора Моржовых, через дорогу. Началось тоже с какой-то помощи по дому.
Тоня тогда собралась сразу уйти от Антона. Прожили б с дочкой — ей тогда третий год шел — да с мамой. Мама-то и остановила. Сама она одна намучилась: мужа ее, Тониного отца, и двух старших сынов в войну потеряла. Тоня и не помнила отца своего.
«Уйти, дочь, большого ума не надо. Ты погоди-ка. Глядишь, побегает да вернется. Ты — жена ему, не как эта — встречная… Антон — мужик слабый, вот и все. Помоги ему. Я вижу, как он к тебе… Поговори с ним в добрую минуту».
Каждое слово матери отзывалось в Тоне целыми картинами… Будто и сама все знала, только до матушкиных слов пряталось знаемое где-то в памяти, а мама как свету пролила…
Ей ли не знать Антона! Слабый… Он не слабый, а добрый. Каждую живую душу готов пожалеть: птицу ли, кошку ли бездомную, пса ли, калеку. Сколько перебывало их на дворе… Кому, как не ей, знать его ласковость… Подруги завидовали, когда ненароком встречали их с Антоном, возвращавшихся из лугов, и щеки и губы Тони пылали, как те гвоздики, что примяли они вместе с травой на крутом бережку… Антоновы же глаза были как талая вода по весне, когда бежит она из чистых луговых снегов по зеленоватому с голубизной ледяному ложу первых ручьев…
И решилась Тоня. Осталась при муже. И минуту выбрала — поговорить. Да куда ей: ругаться, лаяться, на своем поставить она не умела. Начала было: «Антоша, что ты меня позоришь перед всеми… Разве я тебе не жена…» И — все. Горло перехватило, голос замер, повернулась и ушла.
Но в тот день он после работы пришел домой. «Ну, — думала она, — понял…»
Однако ночью он тихо-тихо встал, отворил окно и спрыгнул в палисадник. Дверью, что ли, не хотел скрипеть, крючок скидывать… А через дорогу бежал уж не таясь…
Как тогда в Тоне сердце насовсем не остановилось… От стыда, от позора жгучего…
Вот что пережила она в тот первый раз… Но пережила… Вернулся Антон к ней.
Тогда и взялся впервые за стройку: перестроил сени во вторую комнату.
И так он любил и миловал свою Антонину, словно век были они в невольной разлуке. В ту пору и зародился у них Алешка — награда ей за терпение.
Наташа, девочка, почему-то не была ей так радостна, как сынок. И не потому, что неказистой уродилась — ни в мать, ни в отца, не беленькая, не черненькая, а так — серенькая, не в наружности дело, — но росла она как-то сама по себе, не ласковая, не привязчивая. Она и замуж-то вышла вроде без любви, вроде так: все выходят, вот и я. И парня взяла шут его знает какого — без царя в голове. Да еще и хвастуном оказался: я — то, я — се; я, если б захотел, космонавтом бы стал! Летчиком-испытателем!
Господи, там посмотреть-то не на что: 44-й размер, 1-й рост. Космонавт… Молоток если подымет, так тут же на ногу уронит… Да не на свою… Вот деньги свадебные на себя одного потратил… Этот небось пеньки не станет обряжать… Жалко Наташку… Но что поделать — судьба…
А сын Алеша… Уж в роддоме его няньки да акушерки красавчиком звали… Бровки темненькие, реснички — прямыми стрелками, глаза открытые, карие, ротишко как ягодка. Вся материнская краса в нем повторилась, только в мужском, мужественном обличье.
Парнем стал — загляденье, девушкам горе. Все девчонки в классе были влюблены в Алешу. Только не в отца сын пошел и по этой части: сдержанный, скромный. Его товарищи в десятом классе (Тоня знает от девчат в цехе) уже по женскому общежитию шастали. Алешку никогда там не видывали.
Может, отцовский пример вызывал в нем отвращение. Бывает же так. Но отца Алешка любил, правда, снисходительно, как старший младшего, как сама Тоня, видимо: чего, мол, с него спрашивать… Жалел.
С трезвым любил он с отцом и мастерить чего, плотничать, в приборах разбираться. Бывали у отца с сыном и рыбалки с ночевками в лугах, у костра… Все как и должно быть у отца с сыном.
Но с матерью — больше должного: у них будто одна душа была на двоих.
Если отец дома не ночевал, Алешка чего-нибудь да придумает, чтоб мать развлечь, порадовать: «Мам, девчонки в классе говорили, в продмаг кофточки какие-то забросили… Зайди, может, подойдет… Мам, кино хорошее привезли. Я и тебе билет взял…»
И пойдут вдвоем. Наташка больше с подругами, бывало, пропадала, чем он с друзьями.
Пойдут вечером в кино, разговаривают, Алеша к матери наклонится, рассказывает ей что-нибудь, смеется. И Тоня, словно его девчонка, прыскает от смеха, веселая… Будто у ней и горя нет.
— Ишь идут, как молодые, — пошутят встречные знакомые. — А не берут тебя, Гоня, годы. Глянь-ка на нее!
Тоня с Алешкой только улыбаются в ответ, довольны друг другом. Алеша гордился материнской молодостью: ни у кого из ребят не было такой матушки.
Понимали они с матерью друг друга со взгляда одного. Что у матери на уме, глядишь, сын уже делает. Сам догадался.
Бывало, как-нибудь вечерком приведут с товарищем, как барана за рога, разбитый донельзя мотоцикл.