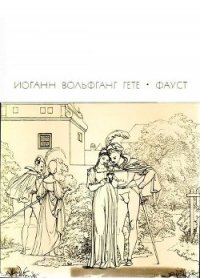У каждого свой ад (Повесть) - Силверберг Роберт (лучшие книги онлайн .TXT) 📗
— Я Гильгамеш, которому известны все тайны мира. Я — тот, кто познал истину жизни и смерти, особенно смерти. Я делил с богиней Инаной ложе Священного Брака; я убивал демонов и разговаривал с богами; я на две трети бог и на треть смертный. — Он замолчал и поглядел на Новых Мертвых, ожидая, пока стихнет эхо от его слов, тех слов, которые он произносил столько раз в подобных ситуациях. Затем продолжал много тише: — Умерев, я пришел в этот мир, называемый Адом, и здесь я провожу время, охотясь на тварей, населяющих земли Окраин. А теперь, извините, мне нужно заняться делом.
И он отвернулся от приятелей.
— Гильгамеш! — удивленно воскликнул Лавкрафт.
— Даже если я буду здесь до конца времен, я этого никогда не забуду. Это еще более невероятно, чем встретить Конана. Ты только представь — сам Гильгамеш.
Как же ему все это надоело: и этот страх, и это низкопоклонство.
И все из-за чертова эпоса, конечно. Он понимал, почему Цезарь так злился, когда к нему приставали с цитатами из Шекспира: «Он, человек, шагнул над тесным миром, возвысясь, как Колосс», и все такое. Цезарь приходил в ярость уже после третьего слова. «Однажды напишут про тебя поэму, — рассуждал Гильгамеш, — как об Одиссее, Ахилле, Цезаре, и тогда твоя собственная сущность постепенно исчезнет, поэтический образ полностью затмит твое я и превратит в ходячее клише. В этом смысле Шекспир был особенно подлым. Спросите Ричарда III, спросите Макбета, спросите Оуэна Глендаура. Они тайком крадутся по Аду, закрывая лица краем плаща, потому что каждый раз, как они открывают рот, люди ждут, что они скажут что-нибудь вроде: „Полцарства за коня!“, или „Что в воздухе я вижу пред собою? Кинжал!“, или „Я духов вызывать могу из бездны“». Гильгамешу пришлось все это испытать вскоре после того, как он появился в Аду, потому что о нем написали поэму сразу же после его смерти — вся эта помпезная напыщенная чушь, состоящая из множества историй о нем, переданных с разной степенью достоверности. А потом вавилоняне и ассирийцы, и даже воняющие чесноком хетты продолжали переводить и приукрашивать эти истории в течение тысячелетия, так что все живущие от одного края известного мира до другого знали их наизусть. И даже когда все эти народы исчезли, а их языки были забыты, он не почувствовал облегчения, потому что люди из двадцатого века нашли оригинал, расшифровали текст и снова сделали его всеобщим достоянием. В течение веков Гильгамеша превращали во всеобщего героя, который только и делал, что преодолевал трудности: он был и в легенде о Прометее, и в рассказах о подвигах Геракла, и в истории о скитаниях Одиссея, и даже в кельтских мифах, поэтому, наверное, этот парень Говард и назвал его Конаном. По крайней мере, тот, другой Конан, который напивался до поросячьего визга, был кельтом. Клянусь Энлилем, как утомительно, когда все ждут от тебя, чтобы ты жил согласно мифам о двадцати или тридцати различных героях! И особенно сбивает с толку то, что настоящие, немифические Геракл, Одиссей и другие тоже живут здесь и считают, что эти мифы написаны про них, хотя на самом деле это всего лишь варианты намного более ранних сказаний о нем, Гильгамеше.
Конечно, в поэме имелась и доля правды, особенно в той ее части, которая повествует о нем и Энкиду. Но поэт напичкал историю их дружбы всякой претенциозной ерундой, как это делают все поэты. В любом случае ты должен был очень устать, если бы тебе пришлось прожить такую долгую и сложную жизнь, изложенную в одних и тех же двенадцати главах и одних и тех же фразах. Случалось, Гильгамеш ловил себя на том, что цитирует эпос о себе самом — поэму о поисках вечной жизни. Ну, положим, это было не слишком далеко от истины, хотя и испорчено многими надуманными подробностями и разной мишурой:
— Я человек, который познал сущность всех вещей, истину о жизни и смерти.
Вычеркнуть нужно из поэмы эти строки. Скучно. Скучно. Он сердито поддел кинжалом шкуру мертвого чудовища и начал его свежевать.
А два человека пошли прочь, обсуждая встречу с Гильгамешем, царем Урука.
Странные чувства обуревали Роберта Говарда, но ему было на них наплевать. Он не мог простить себе, что в какой-то легкомысленный момент поверил, что этот Гильгамеш — его Конан. Это было не что иное, как лихорадочное возбуждение, которое обычно охватывало его за работой. Неожиданно встретиться с мускулистым гигантом в набедренной повязке, который заколол дьявольское чудовище маленьким бронзовым кинжалом, и решить, что перед ним могучий киммериец — что ж, это вполне простительно. Здесь, в Аду, очень быстро понимаешь, что можешь встретиться с кем угодно. Ты можешь играть в кости с лордом Байроном или пить вино с Менелаем, или спорить с Платоном об идеях Ницше, который будет стоять тут же рядом, недовольно скривившись. Через некоторое время все это принимается как должное.
Почему бы не допустить, что этот парень — Конан? Неважно, что у него были глаза другого цвета — это пустяки. Во всем остальном он был очень похож на киммерийца. У него был рост Конана и его сила. Он обладал не только царственной внешностью, но и, как казалось, холодным умом и сложным внутренним миром, которые были свойственны Конану, его храбростью и неукротимым духом.
Все несчастье в том, что Конан — удивительный киммериец-воин, живший за девятнадцать тысяч лет до рождества Христова, никогда не существовал в реальной жизни, он жил только в воображении Говарда. А в Аду не было придуманных персонажей. Можно было встретить Рихарда Вагнера, но Зигфрида — никогда, Вильгельма Завоевателя — да, Вильгельма Телля — нет.
«Все в порядке», — сказал себе Говард. Его фантазия — встретить Конана здесь в Аду — это всего лишь сентиментальный нарциссизм. Лучше об этом забыть. Встреча с настоящим Гильгамешем — это гораздо интереснее. Подлинный шумерский царь — титан, пришедший из начала времен, а не какой-то там придуманный персонаж, сделанный из картона и захватывающих, но нереальных грез. Человек из плоти и крови, который прожил бурную жизнь, сражался в великих битвах, разговаривал на равных с богами, боролся с неизбежностью смерти и после нее дал бессмертную жизнь мифологическому архетипу — да, он больше заслуживает внимания, чем какой-то Конан. Учитывая все это, Говард вынужден был признать, что его разговор с Конаном дал бы ему не больше, чем общение с собственным отражением в зеркале. А может, встреча с «реальным» Конаном, если бы она была возможна, повергла бы его в такое смятение души, от которого бы он никогда не оправился. «Нет, — подумал Говард, — в любом случае лучше Гильгамеш, чем Конан». Он с этим уже смирился.
Но с другой стороны… этот внезапный дикий порыв броситься к ногам гиганта, оказаться в его могучих объятиях…
Что это было? Откуда это пришло? Ради пылающего сердца Аримана, что это могло значить?
Говард вспомнил тот случай, когда он был на дамбе Киско и наблюдал, как строители, раздевшись донага, ныряли и плескались в воде: хорошо сложенные люди, самоуверенные. Какое-то время он смотрел на них и восхищался их физической красотой. Фигурами эти мужчины напоминали греческие статуи, эти буйные Аполлоны и Зевсы. Но услышав, как они кричат, смеются и произносят непристойности, Говард разозлился, внезапно придя к выводу, что на самом деле они бездумные животные, естественные враги таким мечтателям, как он. Говард ненавидел их, как слабый всегда ненавидит сильного; ненавидел этих красивых бестий, которые, если представится случай, растопчут и мечтателя, и его мечты [14]. Но потом техасец напомнил себе, что и сам не слабак; что ему, который когда-то был слабым и тщедушным, путем огромных усилий удалось стать сильным и здоровым. Может быть, не таким хорошо сложенным, как эти люди, — он для этого слишком мясистый, слишком дородный, — но несмотря на это, здесь не было ни одного человека, которому он не смог бы сломать ребра, если бы дело дошло до драки. В тот раз, в Киско, он ушел с берега, кипя от ярости.
С чем все эта было связано? Была ли это просто подавленная ярость — своего рода темное скрытое вожделение, некое страстное греховное желание? А может быть, гнев, который возник в нем, маскировал гнев, направленный против себя самого за то, что он любовался теми обнаженными мужчинами?