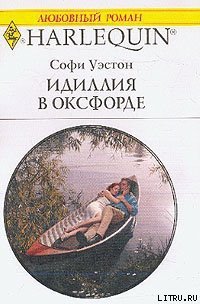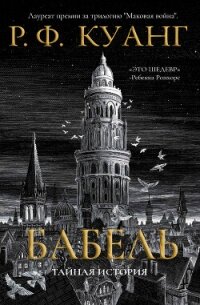Вавилон - Куанг Ребекка (бесплатные серии книг .TXT, .FB2) 📗
Мистер Честер ушел в пять, задав гору литературы, на которую Робину было больно смотреть. Он отнес тексты в свою комнату, а затем, спотыкаясь и вертя головой, отправился в столовую ужинать.
— Как прошли занятия? — поинтересовался профессор Ловелл.
Робин заколебался.
— Просто отлично.
Рот профессора Ловелла искривился в улыбке.
— Это немного многовато, не так ли?
Робин вздохнул.
— Немного, сэр.
— Но в этом и заключается прелесть изучения нового языка. Это должно казаться огромной задачей. Это должно тебя пугать. Это заставляет тебя оценить сложность тех языков, которые ты уже знаешь.
— Но я не понимаю, почему они должны быть такими сложными, — сказал Робин с внезапной яростью. Он ничего не мог с собой поделать; его разочарование нарастало с полудня. — Зачем столько правил? Зачем так много окончаний? В китайском языке нет ничего подобного; у нас нет времен, склонений и спряжений. Китайский язык намного проще...
— Ты ошибаешься, — сказал профессор Ловелл. — Каждый язык сложен по-своему. Так получилось, что в латыни сложность языка выражается в форме слова. Его морфологическое богатство является преимуществом, а не препятствием. Рассмотрим предложение Он будет учиться. Tā huì xué. Три слова в английском и китайском языках. В латыни требуется только одно. Disce. Гораздо элегантнее, видите?
Робин не был уверен, что видит.
Этот распорядок — латынь утром, греческий после обеда — стал жизнью Робина в обозримом будущем. Он был благодарен за это, несмотря на тяжкий труд. Наконец-то у него появилась какая-то структура в его днях. Теперь он чувствовал себя менее неустроенным и растерянным — у него была цель, у него было место, и хотя он все еще не мог понять, почему эта жизнь выпала на его долю, из всех мальчишек-докеров Кантона, он относился к своим обязанностям с решительным, неумолимым усердием.
Дважды в неделю он занимался с профессором Ловеллом китайским языком.* Сначала он не мог понять, о чем идет речь. Эти диалоги казались ему искусственными, натянутыми и, главное, ненужными. Он уже свободно владел языком; он не спотыкался при вспоминании словарных слов или произношении, как это было, когда они с мистером Фелтоном разговаривали на латыни. Почему он должен отвечать на такие элементарные вопросы, как, например, как он нашел свой ужин или что он думает о погоде?
Но профессор Ловелл был непреклонен.
— Языки легче забыть, чем ты думаешь, — сказал он. — Как только ты перестаешь жить в мире китайского языка, ты перестаешь думать по-китайски.
— Но я думал, что вы хотите, чтобы я начал думать по-английски, — сказал Робин, смутившись.
— Я хочу, чтобы ты жил по-английски, — сказал профессор Ловелл. — Это правда. Но мне все равно нужно, чтобы ты практиковался в китайском. Слова и фразы, которые, как ты думаешь, высечены в твоих костях, могут исчезнуть в мгновение ока.
Он говорил так, как будто такое уже случалось.
— Ты вырос с прочным фундаментом в мандаринском, кантонском и английском языках. Это большая удача — есть взрослые, которые тратят всю свою жизнь на то, чтобы достичь того, что есть у тебя. И даже если им это удается, они достигают лишь сносного уровня беглости — достаточного, чтобы свести концы с концами, если они хорошо подумают и вспомнят словарный запас перед тем, как заговорить, — но ничего близкого к родному уровню беглости, когда слова приходят сами собой, без задержки и труда. Зато ты уже освоил самые трудные части двух языковых систем — акценты и ритм, те бессознательные причуды, на изучение которых у взрослых уходит целая вечность, да и то не всегда. Но ты должен их сохранить. Нельзя растрачивать свой природный дар.
— Но я не понимаю, — сказал Робин. — Если мои таланты лежат в китайском, то зачем мне латынь и греческий?
Профессор Ловелл усмехнулся.
— Чтобы понимать английский.
— Но я знаю английский.
— Не так хорошо, как ты думаешь. Множество людей говорят на нем, но мало кто из них действительно знает его, его корни и скелеты. Но необходимо знать историю, форму и глубины языка, особенно если ты планируешь манипулировать им, как ты однажды научишься делать. И в китайском языке тоже нужно достичь такого мастерства. Это начинается с практики того, чем ты владеешь.
Профессор Ловелл был прав. Робин обнаружил, что удивительно легко потерять язык, который когда-то казался ему таким же знакомым, как его собственная кожа. В Лондоне, где не было видно ни одного китайца, по крайней мере, в тех районах Лондона, где он жил, его родной язык звучал как лепет. Произнесенный в гостиной, самом квинтэссенциально английском помещении, он не казался родным. Он казался выдуманным. И это иногда пугало его, как часто он терял память, как слоги, на которых он вырос, могли вдруг зазвучать так незнакомо.
Он прилагал к китайскому языку в два раза больше усилий, чем к греческому и латыни. По несколько часов в день он упражнялся в написании иероглифов, тщательно прорабатывая каждый штрих, пока не добился идеальной копии печатных иероглифов. Он потянулся к своей памяти, чтобы вспомнить, как звучат китайские разговоры, как звучит китайский язык, когда он естественно слетает с языка, когда ему не нужно делать паузу, чтобы вспомнить тональность следующего слова, которое он произносит.
Но он забывал. Это пугало его. Иногда, во время практических бесед, он обнаруживал, что забывает слово, которое раньше постоянно произносил. А иногда, на его собственный слух, он звучал как европейский моряк, подражающий китайцу, не понимая, что говорит.
Но он мог это исправить. Он мог. Через практику, через запоминание, через ежедневные композиции — это было не то же самое, что жить и дышать мандаринским языком, но достаточно близко. Он был в том возрасте, когда язык навсегда запечатлелся в его сознании. Но он должен был стараться, действительно стараться, чтобы не перестать видеть сны на родном языке.
По крайней мере три раза в неделю профессор Ловелл принимал в своей гостиной самых разных гостей. Робин предполагал, что они, должно быть, тоже были учеными, поскольку часто приходили со стопками книг или переплетенных рукописей, которые они рассматривали и обсуждали до глубокой ночи. Оказалось, что некоторые из этих мужчин говорили по-китайски, и Робин иногда прятался за перилами, подслушивая очень странные звуки англичан, обсуждающих тонкости классической китайской грамматики за послеобеденным чаем. «Это просто конечная частица», — настаивал один из них, в то время как другие восклицали: «Ну не могут же все они быть конечными частицами».
Профессор Ловелл, казалось, предпочитал, чтобы Робин не попадалась ему на глаза, когда приходили гости. Он никогда прямо не запрещал Робину присутствовать, но делал пометку, что мистер Вудбридж и мистер Рэтклифф придут в восемь, что, по мнению Робина, означало, что он должен быть незаметен.
Робин не возражал против такой договоренности. Признаться, он находил их беседы увлекательными — они часто говорили о таких далеких вещах, как экспедиции в Вест-Индию, переговоры о продаже хлопка в Индии и жестокие волнения на Ближнем Востоке. Но как группа, они были пугающими; процессия торжественных, эрудированных мужчин, одетых в черное, как воронье гнездо, каждый из которых был более пугающим, чем предыдущий.
Единственный раз он ворвался на одно из этих собраний случайно. Он был в саду, совершая свой ежедневный рекомендованный врачом обход, когда услышал, как профессор и его гости громко обсуждают Кантон.
— Напьер — идиот, — говорил профессор Ловелл. — Он слишком рано разыгрывает свою партию — нет никакой тонкости. Парламент еще не готов, и, кроме того, он раздражает компрадоров.
— Вы думаете, что тори захотят выдвинуться в любой момент? — спросил мужчина с очень глубоким голосом.
— Возможно. Но им нужно будет получить более надежный опорный пункт в Кантоне, если они собираются ввести туда корабли.
В этот момент Робин не удержался и вошел в гостиную.