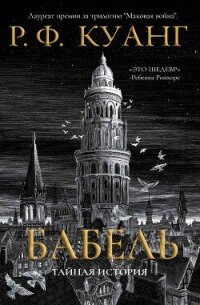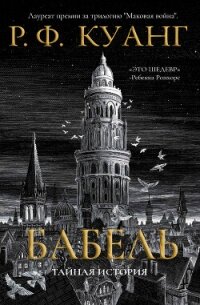Вавилон. Сокрытая история - Куанг Ребекка (мир книг TXT, FB2) 📗
В голове Робина пронеслась сотня аргументов: что он не просил привилегий Оксфорда, не сам принял решение уехать из Кантона, и щедрость университета не должна накладывать на него обязательство быть беспрекословно верным империи и ее колониальным проектам, иначе это очередная форма рабства, на которую он никогда не соглашался. Он не желал такой судьбы, за него все решили другие. Он не знал, какую судьбу выбрал бы сам – эту или жизнь в Кантоне, среди людей, которые выглядят и говорят так же, как он.
Но какое это имело значение? Профессора Ловелла не разжалобить. Имело значение только то, что Робин виновен.
– Что это для тебя? Развлечение? – Профессор Ловелл покривил губы. – Ты получал удовольствие? О, наверняка. Представляю, как ты воображал себя героем из какого-то романа, вроде разбойника Дика Турпина, да? Ты всегда обожал бульварные романчики. Днем – усталый студент, а ночью – смелый вор? Тебе это казалось романтичным приключением, Робин Свифт?
– Нет. – Робин расправил плечи и попытался хотя бы говорить не так жалко и испуганно. Если его все равно накажут, он хотя бы не изменит своим принципам. – Нет, я поступал правильно.
– Вот как? И что же в этом правильного?
– Я знаю, вам плевать. Но не сожалею о том, что сделал, и вы можете поступать как вам угодно…
– Нет, Робин. Скажи, за что ты сражался. – Профессор Ловелл откинулся назад, сцепил пальцы и кивнул. Как на экзамене. Как будто он на самом деле слушал. – Давай, убеди меня. Попытайся меня завербовать. Старайся как следует.
– Вавилон несправедливо забирает себе все серебро, – сказал Робин.
– Ах вот как, несправедливо!
– Это неправильно, – продолжил Робин, распаляясь. – Эгоистично. Все наше серебро служит богачам и военным, идет на кружева и оружие, когда люди умирают по банальным причинам, и серебро могло бы это легко предотвратить. Неправильно, что Вавилон набирает студентов из других стран, чтобы работали здесь над переводами, а их родина ничего не получает взамен.
Он прекрасно знал эти аргументы. Робин повторял сказанное Гриффином, те истины, которые он усвоил. Но лицо профессора Ловелла оставалось каменным, и теперь все эти слова казались глупыми. Голос Робина дребезжал от неуверенности.
– Если ты и впрямь так возмущен тем, как обогащается Вавилон, – продолжил профессор Ловелл, – почему же ты с удовольствием брал его деньги?
Робин сжался.
– Я не… я не просил…
Но больше он не смог придумать ничего связного. Его щеки пылали.
– Ты пил шампанское, Робин. Получал стипендию. Жил в меблированной комнате на Мэгпай-лейн, расхаживал по улицам в одежде от хорошего портного, оплаченной университетом, но утверждаешь, что это кровавые деньги. Тебя ничего не беспокоит?
И он попал в точку. Робин был готов, даже теоретически, отказаться ради революции, в которую он не очень-то и верил, лишь от чего-то незначительного. Он был не против сопротивления, только бы оно не мешало ему жить. И это противоречие его не беспокоило, пока он не слишком над ним задумывался. Но в таком мрачном изложении казалось неопровержимым фактом, что Робин отнюдь не революционер, у него, по сути, отсутствуют убеждения.
Профессор Ловелл снова скривил губы.
– Ну что, теперь тебя не так беспокоит империя?
– Это несправедливо, – повторил Робин. – Неправильно…
– Неправильно, – передразнил его профессор Ловелл. – Предположим, ты изобрел механическую прялку. И что, тебя следует обязать поделиться своим изобретением со всеми, кто до сих пор прядет вручную?
– Но это не то же самое…
– И что же, мы должны раздавать серебряные пластины по всему миру, отсталым странам, имевшим все возможности для создания собственных центров перевода? Для изучения иностранных языков не нужны большие вложения. Почему Британия должна помогать тем странам, которые не сумели воспользоваться своими преимуществами?
Робин уже открыл рот, чтобы ответить, но не мог ничего придумать. Почему так трудно подобрать слова? С его аргументами что-то не так, но он не мог понять, что именно. Свободная торговля, открытые границы, равный доступ к знаниям – все это хорошо звучало в теории. Но если игровое поле и впрямь такое ровное, почему же вся прибыль скапливается в Британии? Неужели британцы на самом деле гораздо умнее и трудолюбивее? Может, они честно играют и выигрывают?
– Кто тебя завербовал? – спросил профессор Ловелл. – Он хорошо постарался.
Робин не ответил.
– Это был Гриффин Харли?
Робин вздрогнул, что само по себе было достаточно красноречиво.
– Ну конечно. Гриффин. – Профессор Ловелл выплюнул его имя, как ругательство. Он долго смотрел на Робина, изучая его лицо, словно пытался найти призрак старшего сына в младшем. А потом спросил на удивление мягким тоном: – Ты знаешь, что случилось с Эвелин Брук?
– Нет, – сказал Робин, хотя и догадывался, что с ней произошло.
Да, он знал эту историю, пусть не в подробностях, но в общих чертах. К этой минуте он уже сложил все фрагменты, хотя не хватало финальной части, потому что он просто не хотел знать правду, не хотел в нее верить.
– Она была потрясающе талантлива, – сказал профессор Ловелл. – Самая лучшая студентка Вавилона. Гордость и отрада факультета. Ты знаешь, что это Гриффин ее убил?
Робин отпрянул.
– Нет, этого не может…
– Он тебе не рассказал? Честно говоря, я удивлен. Я думал, ему захочется позлорадствовать. – Взгляд профессора Ловелла помрачнел. – Позволь тебя просветить. Пять лет назад Эви, бедная невинная Эви, работала на восьмом этаже за полночь. Ее лампа горела, но она не заметила, что все остальные огни погасли. Такова была Эви. Увлекшись работой, она теряла представление о реальности. Все, кроме исследования, переставало существовать. Гриффин Харли вошел в башню около двух часов ночи. Он не увидел Эви, она сидела в дальнем закутке. Он думал, что один в здании. И Гриффин занялся тем, что у него получалось лучше всего, – кражей и мародерством, копался в драгоценных рукописях, чтобы контрабандой переправить их бог знает куда. Он был уже у двери, когда понял, что Эви его видела.
Профессор Ловелл умолк. Его молчание смутило Робина, пока он с изумлением не заметил, что глаза профессора покраснели и увлажнились. Профессор Ловелл, не демонстрировавший ни намека на чувства все эти годы, плакал.
– Она ничего не сделала, – хрипло произнес он. – Не подняла тревогу. Не закричала. Ей не дали такой возможности. Эвелин Брук просто оказалась не в том месте не в то время. Но Гриффин перепугался, что она может его выдать, и убил ее. Я нашел ее на следующее утро.
Он протянул руку и похлопал по истертой серебряной пластине, лежащей в углу стола. Робин видел ее много раз, но профессор Ловелл всегда держал ее наполовину скрытой за рамкой для картины, а Робину недоставало смелости спросить. Профессор Ловелл перевернул пластину.
– Знаешь, для чего служит эта словесная пара?
Робин посмотрел на пластину. На одной стороне было написано 爆. У него внутри все перевернулось. Он боялся смотреть на другую сторону.
– Бао, – сказал профессор Ловелл. – Что значит «огонь». А кроме того, это значит «насилие», «жестокость» и «беспорядки». Сам по себе иероглиф может означать «необузданные, дикие зверства»; он же используется в словах, обозначающих «гром» и «жестокость» [75]. И Гриффин перевел его как «вспышка», самый примитивный перевод, настолько примитивный, что едва ли вообще используется, поэтому вся эта сила, все разрушения были скрыты в серебре. И ее грудь взорвалась. Ребра разошлись, как будто кто-то открыл птичью клетку. А потом он оставил ее лежать среди полок, с книгой в руке. Когда я увидел ее, кровь залила половину пола. Все страницы были красными. – Он подвинул пластину по столу. – Вот, возьми.
Робин вздрогнул.
– Сэр?
– Возьми ее, – рявкнул профессор Ловелл. – Почувствуй ее вес.
Робин сомкнул пальцы на пластине. Она была ужасно холодной, холоднее других пластин, и необычно тяжелой. Да, он верил, что она способна убить. Она как будто гудела от скрытой в ней яростной мощи, словно бомба, которая вот-вот взорвется.