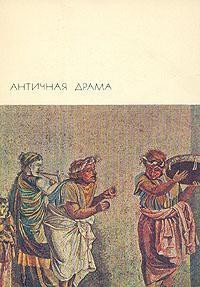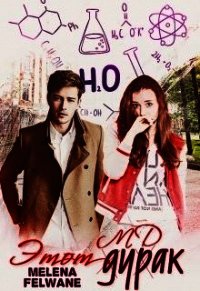Дурак (СИ) - Беляева Дария (онлайн книга без TXT) 📗
А теперь кто его знает, что он любит, кроме как в прятки играть.
Позади меня во дворце горят окна, а еще прожектора, высвечивающие движение на площади. А я иду в темноту, здесь пусто, как пусто, просто на всякий случай, и в ближайших кварталах, только к вокзалу город немного смелеет, оживляется. Я к вокзалу не иду. Ныряю между домами. Здесь в основном офисные здания и музеи, жилых домов исчезающе мало. Кое-какие дома с широкими террасами, заросшими зеленью, снимают туристы, но все больше летом, а сейчас для этой роскоши холодновато.
Я пытаюсь смотреть по сторонам, замечать всякие вещи, чтобы не слепнуть от боли. Здесь почти совершенно темно, дворец, как маяк, сияет своими огнями, слишком яркими, ревущими в голове. Я закрываю глаза, плутаю в темноте, натыкаясь на стены. Под руками у меня то и дело оказываются стекло и камень. Небо не испускает никакого света, и даже луна снова скрылась, недовольная этой ночью. Пахнет камнем и пылью из-под машин.
Вот бы, думаю я, найти здесь море и в него шагнуть. Я представляю, как следующий же мой шаг обнаружит не камень, воду, но чистая, синяя вода в Анцио, а здесь только палочки от мороженого, использованные билетики и мой мертвый папа.
Горечь на языке и шум в голове не становятся слабее. Я открываю глаза. Кое-где горит свет. Начались жилые кварталы. Узкая улица идет вверх, и подниматься тяжело. Здесь едва проскочит мотоцикл, так что машин я не боюсь. В окнах иногда снуют тени — там люди делают всякие вещи, которые совершаются вечером — едят, целуются, слушают музыку, занимаются любовью, смотрят телевизор, читают и мечтают. Я бы хотел быть в Анцио и тоже чем-то таким заниматься. Кровь в голове идет пулеметной очередью, и я понимаю, что сейчас потеряю сознание. Тогда я ложусь прямо на камни, тесно прижавшиеся друг к другу, будто им холодно. Один из них впивается мне в шею, но это уже не важно. Небо Вечного Города плавает надо мной, и я вспоминаю море в Анцио и, кажется, слышу его шум.
Небо становится еще темнее, а затем черным.
Когда я открываю глаза, я чувствую себя свежим и отдохнувшим, в голове все тихо. Концерт окончен, музыканты расходятся, зрители прекратили аплодисменты, и только я остаюсь, чтобы убирать бардак. Даже в собственной голове мне отведено место уборщика, но это смешно, а не обидно, потому что уж у себя в черепе я все сам решаю.
Я думаю: есть ведь такой зверь, он розовый как червь, похож на змею и лапы у него две — как он там называется? Это меня занимает пару минут, пока боль в шее не отвлекает меня. Тогда я вспоминаю, почему я здесь, что это за небо и что с моим папой. Но вместе с болью и отчаяние уходит, я вдруг думаю: нет-нет-нет. Мой папа не лежит неподвижно, дышит, его кожа теплая, а глаза блестят. Это значит, что он живее тех, кого закапывают и сжигают. У него живое сердце.
Вот что я думаю: папа был мертв, а потом очнулся, и хотя это все еще было его тело, он снова получил жизнь, а вместе с ней и совсем иные божественные глаза.
Но это тело папы, голова папы и в ней мозг папы, который все еще хранит папину жизнь. Нужно вернуть в эту голову самого папу, и все встанет на свои места. А чтобы был сам папа, бог должен смотреть на него правильными глазами.
Я переворачиваюсь, ухом прижимаюсь к камню, пытаясь почувствовать, как пульсирует под его скорлупой земля. Вижу, свет включили, стоят на балконах, смотрят. Я говорю:
— Я в порядке!
Поднимаю руку, чтобы показать, что двигаюсь, и снова слушаю, как пульсирует земля и из самых недр ее доходят до меня песни огня внутри. Это я тоже в книжке читал: там в глубине пылает земляное сердце, наполненное лавой, как мое сердце кровью.
А может я себе это все только представляю. Еще минуту спустя я понимаю, это не моей судьбой так озабочены граждане Империи, не на меня смотрят. Там, в конце улицы, с трудом протискиваясь в узком промежутке между двумя домами, спускаются вниз тени. Они что-то несут, и оттого кажутся сгорбленными, больными. Я слышу, как кто-то причитает:
— Добрые люди! Подскажите, как добраться до ближайшего кладбища! Несем дочку хоронить, мы устали, денег нет! Швырните, кто сколько может! Или, может, вызовите машину, если вы не без сердца!
Кричит человек, идущий впереди. Я уверен, что он еще и кривляется, есть в его голосе нечто отвратительное, какая-то сытая и глумливая наглость, и причитает он так нарочито бездарно, что даже жутковато. Я приподнимаюсь. Обе фигуры одеты в плащи, отсюда теперь, благодаря свету, который зажигается везде, распространяясь от одного окна к другому, видно даже многочисленные складки на ткани, а вот лиц не видно никак. Эти люди несут гроб, простой, бедный, криво сколоченный из досок, словно бы на скорую руку. Я, кажется, вижу даже щепки на нем, не знаю, как называются эти огрехи в дереве, но это — зародыши заноз.
Человек, идущий впереди и принимающий на себя основной вес домовины, продолжает, нараспев почти, просить о помощи. Все это похоже на какой-то жуткий ритуал, где двое исполняют какие-то непонятные, жалкие роли, а кто-то третий в гробу ждет.
Но если там правда ждет мертвый человек, то его скорее надо придать земле. Я поднимаюсь, отряхиваюсь.
— Здравствуйте! — говорю я. — У меня есть деньги и телефон. Я могу вызвать вам машину.
Они останавливаются, словно бы даже чуть раздраженно. Я стою у них на пути. Люди уходят с балконов, теперь смотрят из окон. Их головы, как воздушные шары над нами. Я думаю, что люди, наверное, будут рады, если один странный парень уведет еще двоих странных людей и одного потенциально мертвого человека.
Я повторяю:
— Здравствуйте.
И говоривший, и его спутник остаются неподвижны. Кажется, под капюшонами у них не блестят глаза, поэтому я думаю, может и нет там ничего. Стоят они долго, даже переживаю, что их сломал. Я делаю шаг к ним. У меня хорошее настроение, потому что есть надежда спасти папу. Если они свою дочку в гроб положили, ее уже не спасешь, поэтому мне хочется им хоть как-то помочь.
Наконец, тот который и до того говорил, снова говорит:
— О, юноша, это чудесно! Да воздаст тебе твой бог, и боги твоих родителей да им воздадут, и пусть дети твои примут твоего бога.
— Да, — говорю я. — Только у меня нет детей.
И тут же добавляю:
— То есть, если у вас теперь тоже совсем нет, вы простите меня, пожалуйста. Я сочувствую вашему горю.
Теперь я вижу, что под капюшонами у них черные платки и черные очки, оттого и кажется, что там темнота одна. Я скольжу вниз по улице, по гладким камням, достаю телефон и набираю номер.
Долгое время я выясняю, какая это улица и кажусь еще более глупым. Наконец, мне удается вызвать машину, тогда я становлюсь суматошным, не понимая, где ее ждать. Наконец, я и они, то есть мы, замираем у фонаря. Они кладут домовину на скамейку, и ее витая спинка — облезшее железо в розах, кажется красивее, чем гроб, похожий на ящик, в каком перевозят бананы. Может, там и есть бананы, думаю я. Здорово было бы, если бы люди возили не мертвых, а фрукты. Я смотрю на гроб, считаю потенциальные занозы и актуальные доски.
Я впервые слышу голос второго человека. Под бесформенным плащом даже не было понятно мужчина это или женщина, а теперь — понятно, потому что голос мягкий, мурлыкающий, звонкий. Она говорит:
— Посмотри на него, он же имбецил.
На самом деле она не права — для имбецила у меня слишком хороший речевой функционал (я специально этой мыслью его себе демонстрирую, чтобы поддержать себя). Мужчина вдруг притягивает ее за шею к себе, тесно прижимает руку в кожаной перчатке к ее рту под платком — это у него выходит грубо и выглядит, как будто он так занялся с ней любовью, совсем не ассоциируется с его подобострастной речью.
— Зато он красавчик, моя любовь.
Тогда я уже решаю обидеться, потому что они меня без меня обсуждают совсем нагло. Говорю:
— Мне с вами детей не растить, я вам только гроб в машину положу.
Я даже увидеть не успеваю, как этот мужчина ко мне метнулся, и вот он уже на коленях передо мной. Он снимает очки, сует их в карман. Теперь я вижу его глаза — они желтоватые, как глаза кота, который поймал в них солнце.