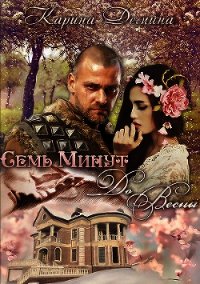Хельмова дюжина красавиц. Дилогия (СИ) - Демина Карина (библиотека электронных книг .TXT) 📗
— Не способна, — покаянно произнесла Евдокия. — Но вы…
— Я? Я… я готова на все… ради гения… чтобы талант воспылал… на радость людям… отдать всю себя…
— А он?
— А он… он мне предложение сделать хотел…
— Но не сделал?
— Говорит, что без мамы нельзя… — Брунгильда Марковна вздохнула. — И вас все время вспоминает… и я подумала… он к вам сватался, а вы отказали.
— Просто поняла, что не способна… всю себя и на алтарь…
— Это очень ответственно с вашей стороны, — одобрила Брунгильда Марковна. — Знаете, я шла сюда… я вас помню… вы показались мне крайне несерьезной особой… а ведь поэта каждый обидеть способен. У Полюшки очень тонкая нежная душа… и я решила, что ваш отказ его глубоко ранил, поэтому он и боится… думала, что если поговорю с вами… а вы с ним…
— Вы хотите выйти замуж?
Брунгильда Марковна смутилась.
И покраснела.
Краснеть она начала с подбородка, что мелко затрясся, выдавая волнение, в которое привел даму вполне себе невинный вопрос. Вдова великого поэта громко вздохнула.
Выронила ридикюль.
И прижав ладони к бледным щекам, призналась:
— Хочу…
— За Аполлона? — на всякий случай уточнила Евдокия.
— Да… поймите, он такой… милый… очаровательный… беззащитный в этом жестоком мире!
Вот уж на беззащитного Аполлон походил слабо, но Евдокия кивала, четко понимая, что спорить с женщиной если не влюбленной, то всяко вознамерившейся сочетаться узами законного брака, чревато.
— И без меня он пропадет! — воскликнула Брунгильда Марковна и пожаловалась. — Он вчера конфеток переел. А я ему говорила, что ему много нельзя! Не послушал… и теперь обсыпало всего.
— Ужас какой…
— А намедни молока выпил порченого. И я ж говорила кухарке, что оно скисло, вылить надобно. Так нет ведь! Глупая баба блины затеяла… а Полюшка молочко и выпил… пить ему захотелось… самолично на кухню отправился…
— Погодите! — Евдокия вытянула руку, обрывая рассказ, ибо заподозрила, что быть ему долгим и на редкость подробным. — Значит, вы хотите выйти за него замуж, а он не хочет делать предложение. И вы думаете, что виновата я, поскольку ему отказала? Так?
Брунгильда Марковна не ответила, но лишь потупилась.
— Знаете… у него ведь мама имеется…
— Да, Полюшка мне рассказывал. Страшная женщина! Она слишком авторитарна! Полагаете, это из-за нее… и что мне тогда делать?
На этот счет у Евдокии имелась идея.
— Пообещайте, что купите ему собаку.
— Кого? — Брунгильда Марковна опешила.
— Собаку. Щенка. Скажите, что подарите на свадьбу…
— А зачем?
— Ему хочется.
— Собаку… — кажется, эта мысль была для Брунгильды Марковны внове. — Думаете, он…
— Уверена…
— Собаку… — вдова подняла и ридикюль, и зонт сунула в подмышку. — Бедный мой мальчик! Он рос в невыносимых условиях… у него даже собаки не было!
Брунгильда Марковна всхлипнула…
— Отсюда в его стихах скрытая боль… вчера он создал новый шедевр… Только послушайте! В очей коровьих зеркалах…
— Не надо! — взмолилась Евдокия и поспешно добавила. — Я… не чувствую себя способной оценить сие… творение по достоинству. Не доросла еще… наверное…
К счастью, Брунгильда Марковна настаивать не стала.
— У вас все еще впереди, — обнадежила она, прижимая ридикюль к сердцу. — Вот увидите… главное, видеть сердцем… мы готовим к изданию сборник Полюшкиных стихов… «Вымя».
— Что?
— Решили назвать его «Вымя»… символично, правда?
— Очень.
— Здесь и аллюзии на происхождение его, и на сакральную связь со вселенной, которая подобно корове поит детей своих молоком разума… я приглашу вас на презентацию.
— Спасибо…
— И вам спасибо. За совет… поверьте, я не собираюсь уподобляться Полюшкиной матери… и скрывать от благодарных поклонников вашу роль в становлении его личности… вас запомнят, как женщину, которой посвящено целое четверостишие!
Ужас какой.
Евдокия сделала глубокий вздох, приказав себе успокоиться.
— «Духи коровьего бытия». Мы так его назвали… и ваш роковой образ останется в веках.
— А… может, не надо?
Брунгильда Марковна окинула Евдокию мрачным взглядом и отрезала:
— Надо.
На том и порешили…
Глава 8
Где события набирают обороты
Ничто так не убеждает в существовании души, как ощущение того, что в неё насрали.
— Труп, одна штука, — сказал Себастьян, пнув пана Острожского остроносой туфелькой. — Экий ты, братец, неосторожный. Кто ж так со свидетелями-то обращается?
Младший насупился.
Нервничает?
И на труп глядит с опаскою, точно подозревает за мертвяком нехорошее. Оно, конечно, бывает всякое, и встают, и ходют потом, людей обыкновенных лишая законного сна, но чутье подсказывало Себастьяну, что нынешний труп — самого обыкновенного свойства.
— Я его связал, — сквозь зубы процедил Лихо.
Его правда. Связал. Кожаным шнурком, которым обычно волосы подвязывал. И главное, вязал со всем старанием, затянул так, что шнурок этот едва ли не до кости впился.
— И на поле никого не было.
— Хочешь сказать, что он сам? — Себастьян, подобрав юбки, которые в следственном деле мешали изрядно, присел. Наклонившись к самым губам мертвеца, он втянул воздух. — Чуешь?
— Что?
— А ты понюхай.
Нюхать пана Острожского Лихо явно не желал, но подчинился.
— Медом вроде…
— Медом. И еще чем?
— Бес!
— Нюхай, я сказал.
Лихо зарычал.
— Ты ж волкодлак, у тебя чутье должно быть, как у породистой гончей… — Себастьян погладил братца по макушке и в приступе родственной любви, которая как всегда проявилась престранно, сказал: — Унюхаешь правильно, я тебе ошейник куплю. Модный. Именной и с подвесочкой…
— А в челюсть? — мрачно поинтересовался Лихо, наклоняясь к самым губам пана Острожского.
— А в челюсть меня нельзя. У меня еще свидание…
Это Себастьян произнес с печалью, которая, однако, в ожесточившемся сердце младшего брата не нашла понимания. Лихо лишь фыркнул и ехидно поинтересовался:
— На свадьбу позовете?
— Всенепременнейше! И если дальше пойдет также, то женихом… ты не отвлекайся, нюхай.
— Мед липовый… и деготь… еще воск… нет, воском он усы мазал.
— Молодец. Дальше?
— Соленые огурцы и чеснок… погоди… — Лихо отстранился и головой мотнул. — Чесноком пахнет, но… не изо рта. Он его не ел, а…
Лихо отодвинул ворот белоснежной рубашки и, увидев красную, покрытую язвами шею пана Острожского, тихо сказал:
— Это не я. Я его, конечно, придушил слегка… разозлился…
Себастьян покачал головой: крайне неосмотрительно было с точки зрения пана Острожского злить Лихослава. Он и человеком будучи характер имел скварный, а с волкодлака перед полнолунием и вовсе никакого спросу.
— На ожог похоже, — Лихо коснулся волдыря когтем.
— Ожог и есть, только не огненный, а химический, приглядись хорошенько… да расстегни ты ему рубашку, не волнуйся, он возражать не станет.
— Не скажи, — прежде, чем к рубашке лезть, Лихослав снял ботинки, стянул носки и, скатав комом, сунул их в рот покойнику.
Себастьян, за сим действом наблюдавший с немалым интересом, на всякий случай отодвинулся и, ткнув в труп пальчиком, произнес:
— Я, конечно, понимаю, что у тебя есть причины его недолюбливать, но… носки в рот? Это как-то чересчур. Прекращай глумиться над телом свидетеля…
Мертвяку он почти сочувствовал.
— Я не глумлюсь, — ответил Лихослав, для надежности затягивая поверх носков ременную петлю. — Он с Серых земель… и мало ли, как оно… это тут у вас покойники с большего народ смирный, а там…
Договаривать не стал, разодрал рубашку мертвеца.
Пятно на груди было не красным — черным, вдавленным.