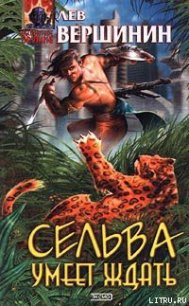Сельва не любит чужих - Вершинин Лев Рэмович (версия книг TXT) 📗
И стар и млад весь год ждут этого дня, ибо нет для унса праздника краше, чем свято Изгнания Злого Сусида…
За день до скончанья зимы спускаются унсы в подпольные клети, расставляют там хитроумные силки, а в петли, готовые затянуться при слабейшем прикосновении, подкладывают, не жалея, по доброму шматку душистого, чуть поджелтевшего свиного сала. И, оставив, выходят прочь, стараясь взбираться по приставной лесенке, не творя ни шума, ни скрипа.
Так оно от пращуров повелось, а как от пращуров повелось, так тому, значит, и быть во веки веков.
Ведь всякому ведомо: обитают при людском жилье, укрываясь глубоко в подвалах, сусиди.
Как в давние времена привезли их с собою на кораблях предки, так и прижились они, хоть и никем не званые. Раньше, сказывают, были они всякие, самые разные, даже и с крылышками, да не все выжили на новой земле.
Нынче всего два сусидских рода остались в поселках.
Первым названье плисюки, и вреда от них людям никакого нет, разве что говорливы больно. Болбочут, не зная устали, днем и ночью, мешают уснуть, и, пока не привык, нет от их пронзительных голосков никакого спасу. Да ведь к тому привыкнуть нетрудно. А привыкнув, уж и замечать перестаешь; живешь себе и живешь, не обращая внимания на подвизгиванье под скрипучей половицей.
А вот пользу плисюки приносят немалую, особо в тех хатах, где малое дите имеется. Никому не ведомо небылиц да бывальщин больше, чем человечкам-невеличкам, щеголяющим жиденькими усиками. Не серди плисюков попусту, унс, обидчивы они и неотходчивы, а лучше поставь им на ночь блюдечко, налей в то блюдечко молочка парного, да и спи себе до утра, горя не зная. Даже если не качает никто зыбку-колыбель, все равно не проснется дите до свету. Не закричит, не заплачет, коли возьмется убаюкивать младеня плисючок-усатик…
Как погаснет свеча, выглянет добрый сусид из щелки, увидит в свете лучины: спят взрослые, осмелеет – и прыг на краешек зыбки! Пристроится там, ровно как скворец на насесте, запалит короткую люльку, пыхнет сладковатым дымком, да и затеет сказки сказывать и побаски баять, навевая сопящей крохе хорошие сны.
Не пусты плисюковские байки! А как раз таковы, какие малому унсу слушать полезно. В память ложатся легко, а в жизни не единожды сгодятся. Чудные сказки, веселые, а и не без смысла: про гордого воеводу мунтянского Влада, прозванного Дракулом, злую турку воевавшего, и про храброго козака Жиля, того, что бороду в синий колер красил, а болтливым бабам спуску не давал, и про старую ведьму-каргу Эльжбету Батори, как она, дура, хотела молодицею обернуться, а так ничего и не сподобилась…
Текут побаски в розовое ушко, спит дитё, засунув в рот пухлый палец, и не жаль за такую услугу прибавить к молочку еще и ложку меда, самого пахучего, пьюньевого!
Вовсе иное дело – маскаль. Вредное племя, гнусное. Вороватое да завистливое. Проку от тех маскалей никакого, а вот сало унсовское тащить они куда как горазды. Лишь на миг отвернешься от стола, а сальца, сальца-то уж и нема. Разве ж этакое можно терпеть? Сало ж, оно такое, его и самим есть охота, а коли сил жевать уже не осталось, так хотя бы понадкусывать. Мешают, поганцы, жить честным унсам, да и у плисюков тоже при случае снедь отбирают, не милуют.
Клятые они, маскали; никому не по нраву такое сусидство!
Вот и выносят их на свет из темных подполов в первое утро искристого месяца березня, всех, скольким жадность и дурость велели в силки сунуться. Несут унсы маскалей целыми связками, держа над головою да потряхивая. Выхваляются перед родовичами: гляньте-ка, а у меня больше! А другие бахвалу откликаются: может, и больше, а зато побачь, какие у меня толстые да гладкие!
Боятся маскали горячего солнышка! Пищат бестолково, коготками ветер царапают, вертят острыми мордочками, злобно скалятся. Э, поздно, маскалики, было ваше время, да кончилось! Раз попались, так никуда не денетесь…
Ухают цимбалы, свиристят сопилки.
Идут унсы гурьбой за околицу, к светлому ручью, сбегающему с гор. Имя тому ручью Лимпопо, по названью великой реки, у которой жили некогда предки, а что то имя означает, только пращурам было ведомо. Прозрачна водица в ручье Лимпопо и студена так, что аж зубы ломит, а если глотнешь хоть раз, то уж вовек вкуса ее не позабудешь…
Много ручейков и речек течет с белых вершин, прорезая редколесье, а только нет нигде другого такого, как тот, что журчит близ Великого Мамалыгина! Быстр Лимпопо и громок. Чуден он при тихой погоде, и рыба в нем водится такая, что, разок червонного карася отведав, уже, пожалуй, даже и салом побрезгуешь…
Выстраиваются унсы рядком на своем, южном берегу Лимпопо, гикая, раскручивают маскалей за длинные голые хвосты и, развертев во всю силу, запускают на ту, не свою, полночную сторону, где лес дремучий и запустение.
Гуляй, маскаль, лети на север сизым соколом, а сюда, к нам, дорогу забудь! Нечего тебе тут делать, не про тебя запасено наше сало, не на твою усатую пельку молочко у плисюков в блюдечках!
Тот из унсов, кто изловчится до другого берега маскаля докинуть, доволен; бороду чешет, пыжится да перед иными, неловкими, выхваляется. Но редкий маскаль долетит даже и до середины ручья! С визгом бухаются они в ледяные струи, дрыгаются, пытаясь доплыть до мелководья. Только где ж им, куцелапым? Всплеснут над водой брызги, в последний раз прорежет утреннюю стынь истошное верещание, и всё!
Нема маскаля, утоп. Одни круги по водам плывут вширь.
Эх, Лимпопо, Лимпопо, батько родной, ой, Лимпопо, унский ручей, не видал ли ты подарка от потомков Унса Пращура?!
Как так – не видал? Врешь, старый, каждый год имеешь…
И еще получи!
Свистят сопилки, гудят цимбалы, пищат маскали.
Хохочут унсы.
Хорошо-то как…
Правду сказать, на сей раз свято вышло на славу. И день выдался солнечный, и теплынь на Твердь легла, и маскалей в петли попалась целая орда, к тому же все, как один, отборные: толстые, крикливые, злые. Таких и до смерти утопить не жаль, и батьку Лимпопо подарить не стыдно.
Оттого и доволен был старый Тарас Мамалыга.
Ко всему еще и так сталось, что наехали вчера в поселок гости. Не свои, которых ждали, а иные. Нежданные, необычные, но до того почетные, что хотелось вуйку хоть в лепешку разбиться, а показать им унсью привольную жизнь во всей ее красе и достатке.
Искоса глядя, доволен был старейший из Мамалыг. Но не вполне.
Дикие горцы, раскрашенные наколками с ног до макушек, взирали на маскальское утопление, как и предвиделось, поразевав рты, и одобрительно галдели каждый нечастый раз, когда вопящий маскаль, умело запущенный сильною рукой, плюхался вблизи от полуночного берега.
Чем отчаяннее барахтался голохвостый, сражаясь за спасение, тем громче подбадривали его дикари. А если уж удавалось остромордому выбраться вживе на прибрежный песок, то и вовсе выходили из себя: прыгали, как малые дети, гомонили, свистели вслед бегущему. Радовались…
Эти, однако, не столь занимали вуйка Тараса.
Дикие, они дикие и есть, что с них возьмешь?
Совсем иное дело: провиднык ихний!
Слух о новом ватажке горных, незнамо откуда объявившемся и в считанный срок подмявшем под себя всех черных, что бродят в сельве, уже успел пробежать по унсовским селениям, и сбор старейших, поразмыслив, постановил, что такая новина важна первостатейно.
Кто таков? Откуда пришел? Для чего?
Надо было, ой как надо получить ответы. А – не выходило. Те из унсов, что пристали к сему Дмитру да так при нем и остались, мало что смогли поведать, хоть и расспрашивали их вуйки с пристрастием. Говорили: вояка храбрый, умелый, до хлопцев снисходительный. А более ничего не ведали, да не очень-то и ведать хотели…
Сам же Дмитро, как ни старался Тарас, с какого боку ни подлезал, хитря по-всякому, все больше отмалчивался. Хмыкал в негустую светлую бородку, щурился, пошучивал. Самогонку пил, не отказываясь, наравне со славнейшими выпивохами, однако хмелел трудно. Совсем в общем-то не хмелел, хотя парубки его уже с третьей чарки под стол поползли.