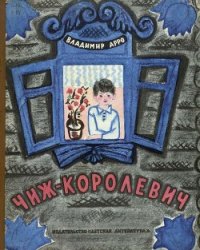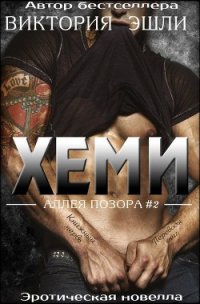Вечный Грюнвальд (ЛП) - Твардох Щепан (читать хорошую книгу .txt) 📗
Но вот потом, в извечном умирании: да, убивал я и детей. Ведь львы тоже убивают своих львят, но мир над этим не рыдает.
Ибо, хотя Ирод и приказал перебить младенцев, но солнце на следующий день все равно встало.
Ибо, хотя Юлий Цезарь и рубил галльских детей, чтобы те не выросли взрослыми галлами, которые себя так легко рубить уже не позволят; потом дети в хороших школах учили на память "Галльскую войну" по латыни: Gallia est omnis divisa in partes tres (Вся Галлия разделена на три части — лат.), и это мириады раз было детскими устами повторено, в мириадах времен и веток исторического развития.
Ибо, хотя в Бабьем Яру и убивали детей, в тот же самый момент жители Берлина и Вашингтона подливали себе сливки в кофе. Нет, благодарю, мне без сахара.
Ибо, хотя в сжигаемой американским напалмом советской Варшаве дети и горели вьетнамскими факелами, жители Стокгольма глядели на это, хрустя чипсами.
Ибо, хотя девочек Парижа, Лиона и Марселя, девочек, чьи лона были еще безволосыми, и насиловали английские гуркхи, в то же самое время в Милане итальянцы раскрывали газеты на спортивном разделе, чтобы узнать результат матча "АЦ Милан" с "Лацио". Три — один.
Ибо, сдыхают от голода птенцы сороки, голову которой отстрелил из духового ружья мальчишка, стерегущий циплят.
Ибо, берлинских мальчонок трех-четырех лет топили в затопленных каналах метро, в Польше маршал Пилсудский пил пиво и играл в карты с Вандочкой, хотя, а что еще он должен был делать?
Ибо, некий неандерталец, имени которого я не смогу записать знаками ни одного из людских языков, видел, как рослый, рыжеволосый кроманьонец убил неандертальского ребенка, пронзив его копьем с роговым наконечником. Нанизав его на копье, затащил он его в свою пещеру, там выпотрошил и слопал, обшмалив на костре. Об этом мне рассказал нашем извечном усмертии отец выпотрошенного, и не понимал он усмертия точно так же, как не понимал его я, и так же как не можете понять его вы.
И ваши предки, как львы: нежелательных младенцев бросали, и те умирали от голода и холода, никогда не познав вкуса материнского молока; так верили германцы, что достойно бросить дитя умирать, если оно еще никогда не ело.
И греки, которые жертвоприношения из людей считали варварскими — не считали варварским обычай бросать нежелательных детей, чтобы они умерли.
И ваши славянские предки приносили детей в жертву Перуну.
А Илларион Александрийский писал своей сестре Алис за сто лет до рождества Христова, что если новорожденный будет мальчиком, то он должен жить, если же родится девочка, пускай Алис бросит ее умирать.
Вы же так любите охать и ахать, глядя на пухленькие детские щечки, только вы такие же самые, ибо человек, равно как и другие хищники, убивал, убивает и будет убивать своих детей. Вы, такие деликатные, убиваете их, просто-напросто, еще до того, как они родятся, по эстетическим причинам, ибо сделались уж больно впечатлительными: брошенные дети плачут слишком громко, в материнском животе плач не слышен. Я не укоряю вас за это, не возмущаюсь, этим вы меня не удивляете. Такие вы попросту и есть — люди. Такие мы и суть — как львы.
Так что убивал я детей в Ewiger Tannenberg: святым огнем палил польские усадьбы и слушал, как с треском лопаются лона Матери Польши, как наши шагающие панцеры топчут испепеленных щенков польских рыцарей. И прокалывал я пикой аантропных, безголовых самок немцев в лебенсборнах, тем более тех, что были беременными, а выстрелами из арбалета убивал немецких беременных работниц и их помет.
Кровь не имеет значения. Кры [25] — это кры. Blut ist Blut, течет как вода, смазывает шестереночки истории словно масло, засыхает будто красная краска на батальных картинах. Кры не имеет значения. Трупы не имеют значения.
Ведь вы любите об этом слушать, правда? Возмущаться людскими обычаями. Так знайте, это о вас, это вы являетесь теми, что сидят и пьют, в то время как в вашей временной ветке продолжается 1996 год, вы сидите, пьете, обмываете первые свои победы на бирже, ругаете политиков, а в Северной Корее матери поедают тела собственных детей. А ваших дочерей и сыновей перерабатывают в мази и кремы, либо кончают они свои жизни на свалках, и время не останавливается, и не плачет над ними небо.
Так что для меня и убивание, и умирание — дело обычное.
А из всех ветвей истории более всего полюбил я Извечный Грюнвальд / Ewiger Tannenberg, ибо там убивание никогда не пряталось в тени, как у вас, ханжи. В Вечном Грюнвальде цивилизация, государство, люди нужны для того, чтобы убивать врагов.
Понятное дело, в истинном в-миру-проживании я этого не знал. Убивать людей было грехом, это ясно, но когда я хотел мяса, и мы могли себе это позволить, матушка посылала меня на двор бани и указывала курицу, принадлежащую нам, потому что у каждой духны имелось несколько собственных кур в общем курятнике, я же эту курицу ловил, держал под мышкой, а потом зарезал.
Потому-то и не удивила меня кровь на руках и на ноже, когда убил я Твожиянека. Знал я, что люди умирают, как и животные; знал, что истекают они кровью. Я начал обыскивать одежду Твожиянека в поисках своего батистового платка — и нашел его на покойном, за пазухой: мое лезвие порезало его, весь платок был в крови.
Забрал я платок с собой и совсем другой дорогой побежал в дом разврата, вошел через задний ход, через баню. Я видел мужчин, громадных мужчин, их тела: бледные, смуглые, различные; башки лысые или покрытые мокрыми лохмами, подрезанными и длинными; спины и груди — худые и жирные, мохнатые и нагие; видел я духн, которые ухаживали за мужскими телами, поливали их горячей водой, намыливали и ласкали, и думал я о том, что я, как они, господа, рыцари, богатые купцы, что могут прийти в в баню, заплатить махлеру Вшеславу, после чего довольствоваться купанием и ртом кочуги, после чего могут приказать принести себе кларету [26] в серебряной кружке, вина белого и прозрачного.
Вот только я в истинном в-миру-пребывании никогда на подобное не покушался, поскольку поначалу была бедность, а потом — уже в Ордене — это запрещали посты.
Впоследствии, естественно, понял я, махлер Вшеслав имел в виду нечто совершенно иное. Я неверно определил дистанцию. Мне казалось, что между мною и Вшеславом имеется непреодолимое расстояние, громадная, непреодолимая бездна, а вот Вшеслава от господ, что приходили в баню, отделяет уже дистанция маленькая, не больше, чем между господином неопоясанным, и опоясанным рыцарем, strennus. А все было совершенно иначе, для тех светлых господ, рыцарей и короле, вельмож, князей и епископов, я и махлер Вшеслав были людскими отбросами, хуже даже сельского мужика, и даже еще хуже, ведь крестьянство занимало свое место в вечном порядке oratores, bellatores и laboratores, то есть тех, что молятся, тех, что воюют, и тех, что трудятся. Мужик-крестьянин был фундаментом этого порядка, его основой, крестьянским трудом жил и рыцарь, и священник — а во времена моего истинного в-миру-пребывания слово "кнеж" означало и князя-повелителя и ксендза-священеника, христианского жерца. Мы же, люди бесхозные, ничем не связанные, отбросы людские, были этого порядка наибольшими врагами, словно язычники или еретики. Только не бунтовал я против такого порядка; бунтовал я только лишь против места, которое занимал я в этом порядке. Ибо сам порядок казался мне таким же естественным и очевидным как восход солнца после ночи и закат после дня. Вот только желал я быть в этом порядке повыше.
И тогда, когда возвратился я домой, убив Твожиянека, до смешного казалось мне, будто бы теперь я уже один из них. Когда же, вскоре после того, понял я, что имел в виду махлер Вшеслав — хотел я быть, как они. Я хотел быть королевичем, рыцарем, светлым господином. Только лишь этого желал, ено не по причине какой-то безумной гордыни или амбиций, я же просто был воспитанным волками ребенком, и дитя это хотело вернуться к людям. Я был королевским незаконнорожденным сыном, живущим в публичном доме с кочугами.