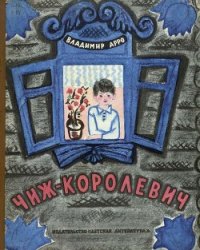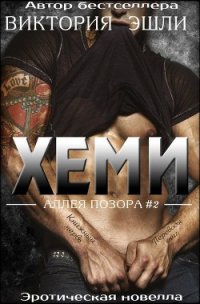Вечный Грюнвальд (ЛП) - Твардох Щепан (читать хорошую книгу .txt) 📗
Так зачем же я удирал? Убегал, потому что желал свободы или, по крайней мере, освобождения; только все это были попытки, заранее обреченные на поражение. Мое рабство жило во мне, во ВсеПашко. И знал я, по-настоящему знал: убежать невозможно.
Никуда невозможно убежать, ибо не было возможности побега в истинном моем в-миру-пребывании, не было ее в Извечном Грюнвальде, где Мать Польша и Германия покрыли землю, словно "инь" и "янь" покрывают поверхность круга, каждое дерево и каждый кусок льда, каждую песчинку и каждый камень, каждую каплю воды и травяной стебель, все является либо польским, либо немецким.
Нет безразличных словно Будда тюленей и моржей на каменных пляжах Новой Земли, которые перед смертью никогда не познали человека, и потому их существование обладает совершенно иным измерением, и мясом которых я питался, жиром которых наполнял светильник и нагревал свою хижину — в Извечном Грюнвальде все, что живо, служит или Матери Польше, или Германии.
А в моем истинном в-миру-пребывании Виссегерд промолвил:
— Черные боги дают нам знамения.
И мы отправились дальше, к глубинам лесов Жмуди, и шли мы по пуще, в которой не ступала нога человека, и ветки сдирали с нас, словно ведьминские ногти, одежды, и они содрали с меня даже ножичек, которым пронзил я Твожиянека, и даже батистовый платок, ради которого я пронзил его, и шли мы, нагие и оружные, и кожу, и мою, и Виссегерда, те ветви калечили, словно когти, и в конце концов пришли мы к месту, в котором лес раскрывался, на поляну, покрытую травой и открытую Дзиву Пацержу, священному солнцу, ясному своду неба.
То было требище, куда никогда еще не приходили никакие жерцы, и никто не возлагал здесь жертв, и стали мы там, нагие, и вонзили мечи в землю, потом уселись под ветвями перка, или же дуба, и устремили взгляды свои к сияющему своду неба.
А после того Виссегерд приказал мне найти и убить тура. И вязял я меч, и отправился, нагой, в лес, и обнаружил тура после пяти дней блужданий изасад, и я шел за ним столь долго, пока не удалось мне загнать его в место с настолько густой лесной подстилкой, что тяжелый зверь не мог уйти в нем от человека, и пошел я на тура, а тот повернулся ко мне и атаковал меня, только я увернулся и вонзил меч в его бок, и пронзил я его, и достал до сердца, и пал тогда тур.
А Виссегерд пришел ко мне, и мы, вырезав мечами лаги, устроили волокушу, и с трудами огромными, затащили черного быка на наше требище, сложили высокий костер, возложили на него тура, и зажгли этот костер, ради Черных Богов, чтобы затанцевали они вокруг него, и вот пошли они по кругу, солярные и хтоничные, сухие боги и мокрые боги, Велес, Змей, Сварог, Индра, Кришна и Радогощ, Дзив Пацерж с именем во всех языках потомков ариев: то есть, Тиваз, Зевс Патер, Иове-Юпитер Патер, Дыяус Питар и самый старший — Дыеус Фатер. А еще Один, и Тор, и какие-то другие.
И молвит Виссегерд: высвободись наконец. Пускай понесут тебя черные боги, поклонись черным богам, слейся с ними в одно целое. И они все сливаются в одного, и исчезает Индра, и исчезает Дзив Пацерж, и все они становятся Чернобогом, и складываются из дыма жертвенного, из убитого тура, которого я убил и в жертву им дал есмь.
А я не кланяюсь есмь. Не падаю на колени. Non serviam (Не прислуживаю — лат.). Возможно, я излишне горд или недостоин, не знаю этого — только не кланяюсь. Черные боги вели меня с того времени, когда Твожиянега я ножичком заколол, и никуда они меня не привели.
Так что отворачиваюсь я, желаю уйти, только махлер Вшеслав заступает мне дорогу, он держит секиру и говорит, что если желаю я уйти, то вначале должен его убить, что живым я не могу его здесь оставить, я же гляжу на клубы дыма от жертвы своей, что окутывают ветви священного перка, и не вижу я в них черных богов, точно так же, как в церквах и соборах не видел я Господа Христа, и уже понимаю, что не должен Вшеслава убивать, и уже понимаю, что если бы убил его есмь, то навечно во владении его оказался бы, в рабстве у него, так что опускаю я свой меч и ухожу, и знаю я, что не поднимет он на меня секиры, и даже оглядываюсь и вижу: он палкой разгребает жар еще горящего костра и пытается вытащить кусок горелого мяса: страшно он голоден.
Я же ушел, в каком-то жмудинском поселении украл простую одежду и шел дальше, уже совершенно одинокий: без матушки, без Твожиянека, без махлера Вшеслава, без Господа Иисуса, без Господа Бога, без черных богов.
И в конце концов дошло до меня: я не мужик и не рыцарь, ни немец я и ни поляк, не добрый христианин, но и не язычник, я — никто. И подумал я тогда, что хочу умереть — но не просто так, ибо умирал я от ненависти к людям и мира, ими сотворенного.
Так что шел я, куда глаза глядят, воруя харч или греясь у огня, к которому меня пригласили, с безразличием выслушивая новости, ничего не желая, кроме тьмы, что вошла бы мне в голову и замкнула ее.
А потом дошли до меня известия о войне — о войне тех, которых ненавидел я, с теми, которых ненавидел так же. И подумал я, что вот так смогу темноту найти.
А по дороге напал на литовского боярина, что молился по-русински и говорил: спаси, Господь! Только я его тут же и убил, забрал у него доспехи и коня, и капеллину, и поехал я в сторону своей смерти, о которой вы уже все знаете, так что нет смысла о ней рассказывать, кроме того, что на поле битвы попал я в рядах хоругви Лингвена, а после того отъехал от рядов, сошел с коня, начал убивать и погиб.
И, умирая, думал я: королевич есмь. И еще шепнул: королевич есмь.
А после того в битву эту я попадал мириады раз: с рыцарским крестом mit Goldenem Eichenlaub, Schwertern und Brillianten [92] в качестве артиллерийского офицера на борту "Гаутамы", флагманского ландкройзера хохмейстера Унгерна фон Штернберг, и в эскорте того же ландкройзера, и под гигантской гусеницей того же ландкройзера, и в кокпите чешского штукаса, когда серый силуэт "Гаутамы" входит в мой прицел, и я начинаю входить в пике, и четвертьтонная бомба отрывается от моего самолета, а для меня весь мир чернеет, только не от смерти, но от перегрузок, превышающих шесть "же".
И был я в Вечном Грюнвальде, и в Эвигер Танненберге, и был я при втором Танненберге в армии Людендорфа и Гинденбурга, был я и в войсках Самсонова, разбитый и сломленный, присутствовал я и при том, как безумная Матильда Людендорф и сам Людендорф — тот самый, бабку которого в Эвигер Танненберг пришлось отдать полякам, потому что она была фон Дзембовской — учреждали Tannenbergbund [93].
Был я под Грюнвальдом, свернувшись за башенкой советского танка, сломя голову мчащегося вперед, за Сталина, за Родину; и сидео в окопе, в сторону которого тот длинностволый Т-34 направлялся, сидел, сжимая трубу panzerschreck'а, которым я не мог пользоваться, или же заряжал древнюю, однозарядную винтовку, потому что геам, фолькштурмистам выдавали только такое оружие.
И был я при Грюнвальде в ходе войны, что велась из глубоких подземных бункеров, где вместо людей на поле боя сталкивались дроны и боевые роботы; и был я на такой войне, которая не была войной физического уничтожения, но велась уже совершенно по иным принципам, и вели ее в элегантных костюмах за столами, заставленными очень дорогим вином и блюдами, войну вели, пожимая друг другу руки, называя друг друга "приятелями" и похлопывая по спине.
И был я тогда, когда польские рыцари начали петь: Богородица, дева, Богом прославленная Мария, своего Сына Господа мать избранная, Мария! Способствуй нам, прости нам. Кирие элейсон. Твоего дела, Креститель, боже, услышь голоса, наполни мысли юдские. Услышь молитву, которую мы возносим, и позволь дать, чего просим: на этом свете божескую жизнь, после жизни же — пребывание райское. Кирие элейсон.
И был я, когда рыцари в плащах белых с черными крестами молились покровительнице Ордена своего: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.