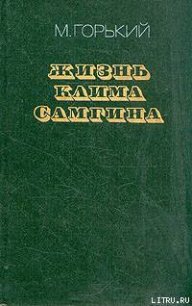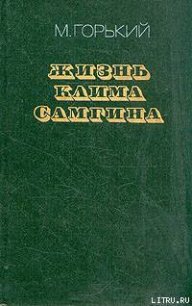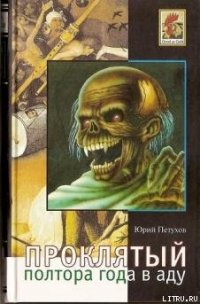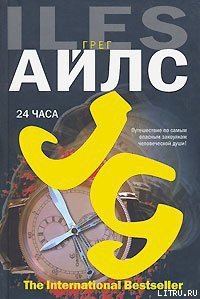Время грозы (СИ) - Райн Юрий (библиотека электронных книг TXT, FB2) 📗
Вот за тем я и приехал, напомнил себе Чернышев, — убедить его величество.
Пожалуй, следовало все-таки пригласить профессора. На государя его логические построения, бесстрастно и точно сформулированные, обыкновенно оказывали заметное впечатление. Но не пригласил.
Старею, старею, в который раз сказал себе экс-премьер. К закату дело.
Так или иначе, попытаюсь. Вот Ольга Андреевна сейчас здесь некстати…
Что-то все труднее дышать, осознал он.
Тяжелые двери императорского кабинета медленно раскрылись. Послышался низкий, сексапильный женский голос:
— Нет! Нет и нет! Вы можете говорить все, что вам угодно, ваше величество, но есть следы! Было нечто, было! И это нечто исчезло! И не куда-нибудь, а в ваши личные архивы! Больше некуда! И это, ваше величество, есть злоупотребление положением! Хорошо же!
Талызин сел прямо и уставился на дверь.
Чернышев попытался глубоко вздохнуть. Как чувствовал — за этим она и пришла. А Владимир Кириллович молодцом. Все-таки есть доля стойкости, не уступил.
Жданóвская вылетела в приемную. Граф повернул голову в ее сторону, приоткрыл глаза. Хороша, ничего не скажешь. Яркая, едва заметно раскосоглазая, злая, при этом улыбается во весь свой полногубый рот — ах, хороша!
На пороге кабинета возникла безупречная, подтянутая фигура — государь, несмотря ни на что, галантно вышел проводить даму. На лице императора, впрочем, читалась растерянность.
Талызин вскочил со стула, четко шагнул вбок, слегка наклонил голову.
Чернышев, тяжело дыша, тоже начал было подниматься из кресла.
Проходя мимо него, Жданóвская улыбнулась еще шире и пропела:
— Ах, граф, как приятно видеть вас таким умиротворенным!
Змея. А остановиться даже не подумала. И на всех парах покинула приемную.
Вот и славно, подумал Иван Михайлович, хватая ртом воздух и оседая в кресле. Ушла. Теперь я ему все не спеша растолкую.
Комок в груди, причинявший ноющую боль, сделался вдруг теплым, затем горячим, непереносимо горячим, стремительно вспучился, заполнил, казалось, всю грудь, грозя разорвать ее и выплеснуться наружу языком белого огня.
Воздух совсем иссяк.
Последним, что услышал Чернышев, был возглас императора:
— Доктора, Талызин, что же вы стоите, доктора немедля!
26. Понедельник, 19 августа 1991
«Прямо-таки храм Артемиды Эфесской. В этакой дыре», — подумал Федор, вступив в здание нижнемещорского вокзала. И добавил про себя Максово словечко: «Блин».
В отличие от Верхней Мещоры, Нижняя, основанная в том же сорок четвертом, так и не выросла в сколько-нибудь значительный город. Может быть, начальство оказалось здесь не столь расторопным — не сумело соблазнить деловых людей, не потекли сюда солидные капиталы. Или подавляла Нижнюю Мещору близость Мурома, естественной столицы гигантского лесного массива. Как бы то ни было, расчеты властей, закладывавших два города-близнеца, оправдались лишь наполовину: Верхняя Мещора процветала, Нижняя — скорее прозябала. Все в ней казалось немного пыльным, каким-то запущенным и, в целом, захолустным.
Все — за исключением железнодорожного вокзала. Его, непонятно для каких надобностей, возвели в свое время роскошным — с античного вида портиками, с полудюжиной маленьких замысловато устроенных фонтанов, с дорогими мозаичными панно на стенах и Бог знает с какими еще излишествами.
Тихо и спокойно работала размещенная чуть на отшибе скромная биологическая лаборатория, а прочая неспешная жизнь городишки вокруг вокзала и вращалась. Приходили, останавливались на три — четыре минуты и уходили сверкающие скоростные поезда; въезжали на привокзальную площадь и отъезжали от нее — всего-то шесть рейсов в сутки — автобусы; порою открывались и закрывались двери стоявшей на той же площади гостиницы, впуская и выпуская немногочисленных постояльцев; из гостиничного ресторанчика, всегда полупустого, доносились по вечерам обрывки музыки, звучавшей, как правило, меланхолично; безмолвно отсчитывали время часы на одноэтажном здании городской управы.
По праздникам разносился звон с колокольни небольшой, посвященной без лишних изысков Николаю-чудотворцу, церкви. Не радостным и не торжественным он казался здесь, а печальным…
В трех минутах ходьбы от площади скучали в универсальном торговом пассаже продавцы; подолгу ждали клиентов расположенные в галерее пассажа: банковская контора, парикмахерская, прачечная, фотоателье, мастерские ремонта обуви и одежды, лавка сувениров. В простеньком кинозале, что по соседству с пассажем, редко когда собиралось больше двух десятков зрителей. Чуть дальше по Главной улице становилось немного оживленнее — здесь находились смешанная земская школа и, напротив нее, реальное училище. Случались стычки, а то и драки — их помнили подолгу и в подробностях.
Дальний конец Главной упирался во Вторую больницу.
Все важное насчитывалось в Нижней Мещоре в количестве одного экземпляра. Больница тоже была единственной, хотя и называлась Второй: как-то само собой случилось, что ее построили, а до изначально предполагавшейся Первой дело так и не дошло. Да и не понадобилась она.
А Вторая — работала. И сильно выбивалась из общей картинки нижнемещорской унылости. Больница, пусть и небольшая, была наисовременнейшим образом оснащена всем необходимым, даже, вероятно, и сверх того, и прекрасно укомплектована высокообразованным, добросовестным, увлеченным персоналом. Как, собственно, все медицинские учреждения в Империи.
Устинов, сошедший несколько минут назад с поезда Москва — Муром, быстро приближался к больнице. Стремительно вечерело, и на сердце тоже делалось все темнее. Эх, Макс, угораздило же…
По дороге, еще в поезде, Федор сообразил связаться с Румянцевым. Оказалось, что профессор — в первопрестольной.
Однако всполошился гений. Что-то малоразборчивое пробормотал, упомянув бога и душу, совершенно, между прочим, в Максовом духе. Потом строго, словно своему ассистенту, велел Устинову доложить, как только выяснит, о состоянии Максима, а еще глядеть на все в оба глаза и, почему-то по-английски, добавил: «Не исключены неожиданности. Чуть что — моментально телефонируй, я приеду». И повторил уже по-русски: «Возможны неожиданности, Федюня. Черт его знает…»
На больничной стоянке подполковник сразу же увидел автомобиль Наташи. Отчего-то тревога усилилась.
В приемном покое миловидная женщина сообщила Федору, что жизни господина Горетовского ничего не угрожает, но шок — сильный, и пострадавший помещен пока в реанимационную палату. Тем не менее, посетить его можно, только немного позже, ибо в настоящее время пациент спит.
— Если угодно, сударь, вы можете обождать в буфетной, — женщина показала рукой в сторону выхода. — Это выйти, повернуть налево и за угол, вы увидите. Кстати же, там и супруга господина Горетовского.
— Спасибо! — коротко бросил Устинов уже через плечо, устремляясь к двери.
Наташа сидела за одним из трех столиков крохотной буфетной. Полная неподвижность, отрешенный взгляд. Чашка чаю на столике. Чай нетронут и давно остыл.
Федор остановился подле нее, помедлил, позвал:
— Наталья Васильевна… Наташа…
Она вскинула на него глаза, молча уткнулась лбом Устинову в локоть.
— Федя.
Он нерешительно положил руку Наташе на плечо.
— Дом нараспашку стоит. Я попросил туда городового поставить. В штатском, чтобы меньше внимания. И скрытно чтобы.
— Спасибо… Хорошо, что ты приехал...
— Как он? — глухо спросил Устинов.
— Не знаю… Они говорят — ничего опасного, а мне страшно… А вообще — плохо. Плохо, Федя. Он сам не свой, давно уже. Ты сядь, сядь, милый.
Федор сел рядом.
— Закажи что-нибудь, — сказала Наташа.
Он мотнул головой. И спросил:
— Почему здесь?
— Не знаю… — повторила она. — Ничего не знаю. Понимаешь, он ведь десять дней, как из дому ушел. Поселился в этом «Красном треугольнике»… На звонки не отвечал, совсем. Зачем-то поехал — наверное, куда глаза глядят… Пьяный, с полицией еще теперь… Господи, да что же я, ведь главное, что жив…