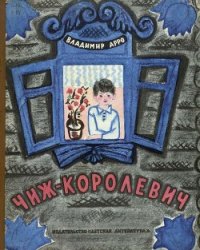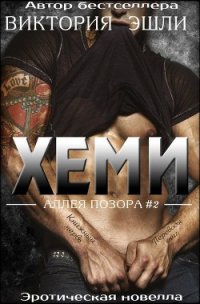Вечный Грюнвальд (ЛП) - Твардох Щепан (читать хорошую книгу .txt) 📗
И потом иду дальше, и разговариваю с караульными, они мне рассказывают, что видели медведя, и уже под конец, уставший от прогулки, я возвращаюсь в наше убежище, где в это время штурмкеровник Тржебиньский сидит на лавочке, которую собственноручно сделал из доски, прикрученной шурупами к двум пустым ящикам от боеприпасов, also сидит и рисует в своем блокнотике.
Отдаю салют и захожу в убежище, после чего иду спать, потому что завтра, в связи с визитом, наверняка мне предстоит занятый трудами день.
И день, вправду, был весь занят трудами. Приезжает капитан, нормально — вермахта, только и того хорошего, что обычный солдат, вроде как знаменитый писатель, служит в Париже, как делаю я вывод из услышанной неделю назад беседы штурмкеровника Тржебиньского со старшим штурмкеровником Жабиньским. Только для меня никакой писатель знаменитым не является. Знамениты Гитлер, Сталин, Рыдз-Смиглый или Муссолини, а не какой-то там писатель.
Во всяком случае, капитан приезжает со своим ординарцем, ефрейтором, и водителем полугусеничной машины, а еще со стрелком, взятым на время вместе с Sd.kfz у штурмбаннфюрера СС Хвольке, оба они из нашей дивизии, то есть, водила — датчанин из полка "Нордланд", а стрелок наш, в полевой мягкой конфедератке цвета фельдграу и с красно-белой эрмельштрайфой (здесь: нарукавный знак (нем.)) на левом плече.
В общем, капитан выходит из машины, худощавый, узкий в талии, в безупречном мундире, как будто бы сейчас выходит на прогулку по парижской улице, с голубым крестиком под шеей, то есть, не хрен с бугра, холера, приветствует меня салютом, я же отвечаю ему нашим салютом двумя пальцами, прилагаемыми к полевой конфедератке, а он не без изумления присматривается к моему салюту, похоже, солдат полка "Венедия" отдает ему салют впервые.
Тржебиньский выскакивает из убежища, застегивая серый парадный мундир, а на голове полевая конфедератка, к тому же криво надета на голову. Это же надо: полевой головной убор к парадному мундиру! Если бы это была настоящая армия, подобные вещи не имели бы права происходить.
Друг друга салютом не приветствуют, просто подают руки, писака хренов с хреновым писакой, капитан вермахта с штурмкеровником Венедии, немец с поляком. И ведут себя так, словно бы были старыми друзьями, хотя, я же знаю, видят один другого в первый раз, а немецкий офицер, так на глаз, старше Тржебиньского лет на двадцать. В свою очередь, странно: капитан после сорока, это значит, резервист, ведь профессиональный военный в этом возрасте, да еще и во время войны, давно должен быть полковником. Но этот здесь не похож на переодетого в мундир гражданского, а именно так, чаще всего, выглядит вырванный с какой-нибудь теплой должности офицер резерва, а этот худой офицер похож, все-таки, на солдата. Да еще и этот Blauer Max на шее. Странно. Впрочем, подобралась парочка: Тржебиньский тоже должен уже быть старшим штурмкеровником, потому что служил в полку с самого начала, был еще во Франции и носит на кителе ленточку Железного Креста и орденский знак Виртути Милитари.
В убежище идут вместе: капитан зовет своего ординарца, и тот приносит из машины ящик, заполненный бутылками с вином: французское, красное. Капитан великодушно вручает нам две, чтобы мы выпили с обслугой вездехода и ординарцем; пробую, дрянное вино, терпкое, так что я не пью, водитель же со стрелком и ординарец рожи не строят. Я заглядываю в убежище, тактично спрашиваю, не заварить ли кофе: Тржебиньский не отрывает взгляда от немецкого капитана, пялится в него как на икону. Постыдно!
И разговаривают, в основном, по-французски, немного по-немецки, но Тржебиньский стыдится обращаться к своему гостю по-немецки, потому что речь он калечит, так что разговаривают они, в основном, по-французски, и эта французская речь странно звучит здесь, в Омало, в грузинском горном селе, в котором стоят польские солдаты полка "Венедия". Только им, похоже, это не мешает. И вдобавок Тржебиньский думает, что я не знаю французский язык, потому что ну откуда мне знать французский — мне, идиоту, павиану, тупому солдафону, довоенному профессиональному унтеру, который учит уставы на память. Не знает того Тржебиньский, равно как не знает и того, кто мой отец, и что я даже в гимназию ходил. Так что говорят они свободно.
Разговаривают они о двух книжках — о "Князе пехоты", написанном давно уже этим немцем, и которого Тржебиньский читал в довоенном переводе, я — естественно — не читал, и про вторую, под названием "По следам Лермонтова", которую мой командир писал по ночам несколько месяцев назад, когда днем мы сражались за Грозный, и в Аргунском ущелье, что тогда мне казалось отвратительным и не соответствующим уставу, поскольку офицер обязан быть отдохнувшим, чтобы иметь возможность командовать своими солдатами, а не писать дурацкие книжки о каком-то русском писателе, писатель пишет о писателе, на кой ляд им еще кто-то другой. Писатель пишет про писателя, и, наверное, другие писатели еще и обязаны все это читать. Я этой книжки, естественно, тоже не читал, а на кой это мне. И кто-то ведь Тржебиньскому должен был переводить ее на немецкий язык, а он сам должен был отсылать это потом на парижский адрес присутствующего здесь немецкого офицера.
И они пьют это их красное вино, и я вижу, что немец держится, а Тржебиньский все сильнее пьянеет.
И тогда он говорит нечто такое, указывая на меня — что забавно вот, что сидят они здесь как поляк с немцем, неожиданно объединенные вопреки случившемуся в истории, вопреки памяти о силезских и великопольских восстаниях, вопреки всему злу, которое немцы, пруссаки в особенности, причинили полякам: Бисмарк, Хаката [43] и так далее. И что, все-таки, здорово, что в перед лицом большевизма и Европы, Польша с Германией обязаны встать вместе; никогда я не слышал, чтобы Тржебиньский в трезвом уме говорил такие вот вещи, а теперь говорит.
И потом, уже несколько заплетающимся языком, вдруг говорит, что этот вот здесь стрелок, по фамилии Шильке, этого исторического союза является наилучшим примером или прямо живой аллегорией: ведь он наполовину-поляк и наполовину-немец, ранее сержант в польской армии, а теперь пржодовник, то есть унтершарфюрер СС, в немецком мундире и в польской конфедератке, но цвета фельдграу, и сражается здесь, как будто бы эти два народа слились в нем воедино.
Капитан кивает головой, они смеются, продолжают выпивать, и немец теперь тоже пьян.
Обо мне говорят, словно бы я был каким-то экспонатом в клетке из зоопарка.
И чувствую я, как это ко мне возвращается. Подчеркиваю: возвращается. И это в данном историческом сюжете, в котором тот извечный антагонизм, как мне казалось, был преодолен, потому что сражаются, плечом к плечу, польские уланы и немецкие гренадеры против советских бойцов и интернациональных добровольцев, в этой ветке истории, подчеркиваю, где мне казалось, что моя немецко-польская кровь не станет тянуть меня ко дну, не станет пригибать шею к земле.
Но я же слышу этот особенный тон в голосе Тржебиньского. Так говорят про метисов. Они — поляк с немцем, немец с поляком, два чистокровных писателя, кровей различных, но чистых, они могут беседовать один с другим в согласии, двое офицеров, двое писателей, один молодой, другой старый, но они равны друг другу, они — одно и то же.
Я же, метис, я — никто, людской навоз, я падаль, я человек-никто, ибо всю жизнь я мог бы ничего не делать, а только возносить алтари Гитлеру или Рыдзу-Смиглему, но все равно, до конца я не буду надежным, со мной до конца никогда не будет в порядке, потому что всегда я буду метисом, мишлингом. И обо мне можно сказать таким образом, словно бы я был вещью — что я являюсь наилучшей аллегорией. Проклятый Тржебинський, он словно бы о собаке говорил.
Только по себе я ничего не даю понять, ничего. А они уже не беспокоятся моим присутствием, уже слишком много выпили, разговаривают об искусстве, звучат фамилии, которые мне ничего не говорят, и звания, которые, скорее всего, ничего не говорят, только все их я тщательно записываю — выхожу во двор, вроде бы как перекурить или по нужде, и все записываю, подвесив фонарик на пуговицу кителя.