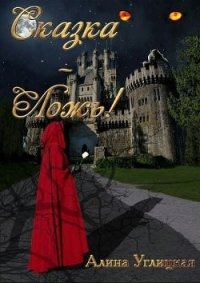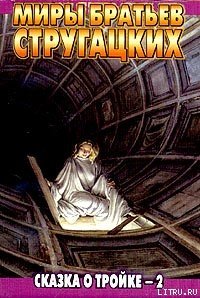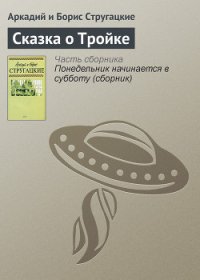Наследники по прямой. Книга первая - Давыдов Вадим (электронная книга TXT) 📗
— Я…
— Ты да я да мы с тобой. Что там у Маслакова с Дашей за дела?
— Да ничего. Лапал он её на уроках.
— Как — лапал?! — изумился Гурьев.
Да, подумал он. Далеконько ушёл я от нормальных человеческих неприятностей. Всего-то?!
— Да так — обыкновенно, — вздохнула Широкова. — Подойдёт и по плечику гладит, пока кто-нибудь урок у доски отвечает. Это привычка у него такая. Да и было бы что серьёзное, а то… В каждом классе — облюбует себе девочку посимпатичнее, и… Какие-то дети, знаешь, спокойно к этому относятся, а Чердынцева — как вскочит, да как даст ему по роже!
— Давно это было?
— Давно. В позапрошлом году ещё…
— Какая прелесть, — Гурьев мечтательно закатил глаза. — Как всё это вовремя — я тебе просто передать не могу. Как же Завадская такой гадюшник у себя терпит-то, под самым носом?
— Да ну его…
Это тебе — «ну», подумал Гурьев. Это от тебя не убудет, даже если он тебя всю облапает и обслюнявит. Засунет и высунет. А это — дети. Дети, понятно?!
— Ладно, с этим я позже разберусь. Теперь слушай внимательно, лошадка, и ничего не перепутай, — Гурьев перевернулся и навис над Татьяной. — Значит, так. С этой минуты — ты под домашним арестом. Завтра утром вызовешь врача и разыграешь перед ним или кто тут у вас весь букет женских болезней, включая токсикоз и родильную горячку. В школе я всё организую, детей пришлю, сходят за продуктами, чтоб ты тут с голоду не преставилась, хотя поголодать тебе не помешает. Никуда не звонить, не выходить на улицу — вообще не выходить, поняла?!
— Да…
— Никому — ничего — не рассказывать. Вообще ничего. Да, нет, не знаю, не видела, не слышала, спала. Это все слова, которые тебе разрешается произносить. Одно твоё лишнее слово может стоить жизни людям, которые мне очень дороги, Таня. Это ты понять можешь?
— М-могу…
— И хотя ты мне тоже дорога по-своему, моё терпение и доброта не безграничны. Это дошло?
— Д-дошло.
— Всё. Ждать распоряжений. К телефону подходить, но не разговаривать ни с кем, кроме меня. Всем отвечать — мол, болею-помираю, перезвоню завтра. Третьего дня. Вчера. Вопросы?
— А ты?
— А я тебя сейчас полюблю ещё один разочек и поеду по своим делам, Танечка, — Гурьев улыбнулся и приступил к исполнению своей угрозы.
— Оставайся, — прошептала Татьяна, вцепляясь ему в плечи так, словно надеялась удержать. — Оставайся… Хоть сколько… Никогда не выходи…
Сталиноморск. 10 сентября 1940
Оставив Татьяну просматривать сны, Гурьев поехал домой. И ему было о чём поразмышлять по дороге.
Было уже почти два ночи, когда Гурьев подъехал к дому. Заведя в сарай мотоцикл, он, по извечной привычке, проверил периметр. Из Дашиного окошка сквозь ставни пробивался свет, и это его не порадовало. Он осторожно вошёл в дом — впрочем, не бесшумно, чтобы не пугать «стражу». Шульгин, выглянув из его комнаты и убедившись, что всё в порядке и все свои, нырнул обратно.
Зато девушка осталась, и выражение её лица ничего хорошего не предвещало.
— Где ты был?! Я чуть с ума от беспокойства не сошла. И Нина Петровна… А Денис Андреевич не говорит. И Алексей Порфирьевич молчит. Почему?!
— Потому что есть дела, о которых никому не положено знать, дивушко. Никому совсем. А случиться со мной не может ничего. Ничего — тоже совсем. Так что волноваться — не надо этого. Не надо.
— Я знаю эти дела, — тихо произнесла Даша, и ноздри её затрепетали, а глаза наполнились слезами и потемнели от гнева. — Это Танькины духи. Вот и все дела. Ты не можешь без этого, да? Никак?
— Даша, — Гурьев улыбнулся. — Давай мы не будем сейчас обсуждать, что, где, с кем, когда и почему я делаю. Я уже говорил, что иногда совершаю на первый взгляд не очень понятные поступки. Это надо просто пережить — и всё. А всё объяснять — я только этим и стану заниматься, а не действовать. Пожалуйста.
— Как же так, Гур? — потерянно спросила Даша. — Как же это — любить одну, а…
— А спать с другой? — прищурился Гурьев. — Измена, да? Предательство.
— Да, — девушка, краснея до корней волос, не отводила гневного взгляда. — Да. Это — измена. Я никогда не прощу измены, Гур. Никогда.
— Это правильно, — кивнул Гурьев, подходя к столу и отодвигая стул. — Может быть, ты присядешь? Я понимаю — ты хочешь выяснить отношения. Садись.
— Я…
— Садись.
Кажется, ничего не изменилось, — ни громкость голоса, ни его высота, — но Даше почудилось, что неведомо откуда сорвавшийся порыв арктического штормового ветра с размаху хлестнул её по лицу. Но она даже не зажмурилась.
— Этим голосом, таким тоном — ты будешь усмирять бунт на пиратском корабле, Гур, — сказала Даша, не двигаясь с места. — Или — отправлять в бой эскадроны. Я знаю — ты можешь. Но со мной — не смей так. Я не бунтую. Я требую, чтобы ты объяснил, почему. Я знаю, что ты меня спасаешь. Поверь, я очень хорошо это знаю. Куда лучше, чем ты думаешь. Но обижать и предавать твою любовь я тебе не позволю. Даже из-за меня. Тем более — из-за меня. Я лучше умру.
Конечно, подумал Гурьев. Конечно. Именно так она и поступит. Конечно, это она. Только она может так разговаривать со мной. Только у неё есть такое право. Все остальные — либо дрожат, либо текут и тают. А она… Господи. Рэйчел. Ты должна, ты просто обязана на неё посмотреть.
Он сел за стол, сложил на столешнице сцепленные в замок руки. Не смотрел на неё. Даша видела сейчас каждую крошечную морщинку, каждую жилочку на этом лице — красивом и жёстком лице человека, не знающего слова «невозможно». Вот только жёсткости в нём было уже много больше, чем красоты. Это цена, поняла Даша. Это — цена. Страшная цена, которую он заплатил. Она помнила слова отца — «Всегда нужно сполна платить по счетам, дочка». Этот человек — платит. И требует платы с других. С себя — прежде всего, но и с остальных — тоже, сполна. С неё, Даши. С Рэйчел, которую любит так, что невозможно дышать. С Таньки. Со всех.
Даша стремительно шагнула к нему, отодвинула стул и села. И накрыла ладошкой замок его рук:
— Прости. Я не должна была этого говорить.
— Должна, — спокойно возразил он, — должна. Должна говорить всё, что смеешь сказать. Всё, что есть тебе сказать. Это правильно. Измена — это когда от подлости, дивушко. Когда знаешь всё, но делаешь — или назло, или чтобы ударить побольнее, или просто от пакости, что сидит внутри. А бывает и по-другому. Бывает, что не от подлости и не от глупости, а от отчаяния или просто от жизни. А самое страшное — это работа. Когда ничего не чувствуешь. Вообще — ничего.
— Как у тебя.
— Может быть.
— Ты просто жалеешь всех.
— Да. Жалею.
— А если бы она была с тобой? Всё было бы по-другому, ведь так?
— Никогда не бывает так, чтобы всё получалось, как задумано. Никогда.
— Потому что цена всё меняет. На всё начинаешь иначе смотреть.
— Да. Да, дивушко ты права. Ты ужасно права.
— Гур… А что такое любовь? Настоящая любовь? Я влюблялась, ты же знаешь, я тебе говорила. Но это так быстро проходит! Как насморк. Почему?
— Любовь — это дерево, дивушко. Его надо растить, поливать, ухаживать за ним. Вкладывать душу. Тогда начинаешь по-настоящему любить. Чем больше вкладываешь, тем больше любишь.
Потому что любовь — это химия, подумал он. Как и всё остальное. Но этого я тебе не скажу.
— И меня ты тоже любишь? Ты столько в меня вложил.
— Десять дней, — он улыбнулся.
— Десять дней твоей жизни, Гур, — покачала головой Даша. — Десять дней твоей жизни — это безумно, чудовищно много. Мало кто может похвастаться, что отнял у тебя больше минуты. А я… Я всё тебе заплачу, Гур. Всё. Вот увидишь. Правда.
Господи, подумал он, глядя в глаза Даше. Господи. Рэйчел. Ты должна. Ты должна на неё посмотреть. Поверь, эта девушка стоит целого мира.
— Я тебя очень люблю, — сказал он и провёл пальцем по её щеке. — Ты не моя женщина, но ты мой человек. И всегда будешь моим человеком. И твой мужчина будет моим другом. Я, во всяком случае, очень постараюсь.