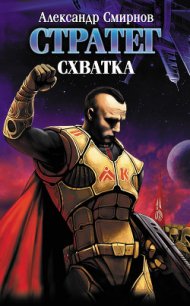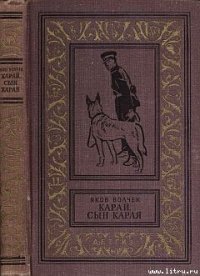Страницы незримых поединков - Логунов Виктор Александрович (хорошие книги бесплатные полностью .txt, .fb2) 📗
Николай Иванович Смеречинский воевал всего несколько дней, так сложилась его несчастливая военная судьба. «Воевал» — если вести речь о прямых боевых действиях. Но он воевал и тогда, в тыловом Оренбурге, когда его «радиоточка» стала «огневой точкой», бившей по врагу.
Война отмерила ему испытаний полной соленой меркой: первые бои, ранение, плен, концлагерь. Фашисты посчитали, что этого достаточно, чтобы можно было сломить человека. Они не учли только, что человека — можно, настоящего советского человека — нет.
Если идти от частного к общему, от судьбы конкретного человека Николая Ивановича Смеречинского к судьбе его народа, то фашисты просчитались точно так же, как, покорив народы почти всей Европы, они решили, что сломят и советский народ.
Об этом я думал, слушая рассказ воина и чекиста о том, что ему довелось пережить и совершить.
В Оренбург Николай Иванович Смеречинский попал впервые за три года до войны. Город и степи вокруг него показались ему скучными после «вышнэвеньких садочков» родной Винницы, после тихого величавого Днепра и зеленых круч Киева, где он по комсомольской путевке учился в артиллерийской школе.
Особенно трудно было, когда на степь как-то сразу обрушивался плотный, обжигающий зной. Травы и весенние тюльпаны выгорали, временами задувал ветер из полупустынь и гнал пыльные смерчи. Глазам было больно от низкого большого солнца. Гимнастерки у 25-летнего комбата Николая Смеречинского и курсантов его батареи то взмокали, то снова высыхали, когда на полигоне по команде «тревога» расчеты мчались к орудиям и под бег стрелки секундомера расчехляли, готовили зенитки к бою. В безоблачном маревом небе появлялся самолет, за ним тащились на длинном тросе полосатая мишень-«колбаса», как она неофициально называлась.
Курсант-«первый номер», откинувшись в горячем железном кресле, ловил мишень в прицел, нажимал тяжелым сапогом на педаль — и 37-миллиметровая зенитка, по тому времени — последнее слово военной техники, била по конусу. Ее тявканье перекрывалось уханьем зениток более крупного калибра и треском зенитных пулеметов.
В такие минуты невысокий, широкогрудый, несколько медлительный капитан Смеречинский преображался. Командовал азартно, успевал за секунды стрельбы заметить все недостатки. И потом, на разборе, горячо втолковывал провинившемуся:
— Ты хорошо поешь на плацу после вечерней поверки «Если завтра война». Но если так, как сегодня, будешь стрелять на настоящей войне — и врага не собьешь, и подведешь всю батарею, разбомбят нас — и маму позвать не успеешь.
— Товарищ комбат…
— Никаких «товарищ комбат». В личное время отрабатывать ловкость и быстроту, не сходить с тренажера, пока не научишься быстро ловить и вести цель. Понял?
Армейскую службу Смеречинский любил и чувствовал себя в ней так же уверенно и ладно, как в гимнастерке, облегавшей его крепкую фигуру.
Он любил армейский порядок и дисциплину, любил стрельбы, курсантские молодые голоса в вечерней тишине, строевые песни.
Человек военный, он готовился сам и готовил своих курсантов защищать Родину.
Знал бы тогда Николай Смеречинский, что снова попадет в Оренбург через четыре года при обстоятельствах, которые ему тогда, в 1938 году, показались бы совершенно невероятными.
…Войну он встретил на границе, в Литве. Накануне вечером в гарнизоне «крутили» новую кинокартину. Был самый длинный день в году, поэтому пока натянули между сосен экран, пока, дождавшись сумерек, посмотрели веселую кинокомедию, с отбоем запоздали.
Но день предстоял воскресный, и молодежь предвкушала купанье в маленькой речке, петлявшей между песчаных бугров, густо заросших сосной, а вечером танцы.
Командиру артдивизиона капитану Николаю Смеречинскому снилась гроза, раскаты грома. Молодой сон увлекал его в глубины, в теплую свежесть, остро пахнущую травой, в мерный гул ветра, раскачивающего вершины сосен.
Усилием воли он заставил себя проснуться. Гром повторился наяву. Смеречинский вскочил. Рвануло совсем рядом, дернулась под ногами земля.
Война!
С этой секунды время как-то потеряло размеренную точность, оно то мчалось скачками, то замирало, томительно растягивалось. Длинные летние дни и короткие светлые ночи смешались.
Зенитчики дивизиона Смеречинского, поставленные в заслон, отбивали многочисленные воздушные атаки с воем пикирующих самолетов, стреляли по танкам. И несли большие потери.
Отступление. Горели густые прибалтийские леса, забитые войсками, беженцами, машинами, стадами. Смрад, дым, крики, взрывы. А по дорогам мчались механизированные колонны фашистов туда, в наш тыл, в сторону Ленинграда.
И был тот последний ночной бой где-то у эстонской мызы, на опушке. Очнувшись, Смеречинский услышал над собой лающую, картавую чужую речь.
Двое рассматривали документы, вытащенные из кармана гимнастерки. Он слышал их голоса, как из-под воды через тонкий звон.
— Зме-рет-шин-ски. Офицер. Артиллериабтайлюнг.
Плен.
В Лодзи с вокзала колонну военнопленных гнали через развалины на окраину. Брань конвоиров, крики, удары. Колышащиеся спины впереди идущих в рваных, обгорелых гимнастерках. Колючая проволока концлагеря, которую они миновали, плац и заранее подготовленные бараки. И тяжелое слово «плен» в такт шагам толчками стучало в голове: плен. Плен. Плен.
Он, кадровый командир Красной Армии, в плену. Где-то на фронте дерутся с фашистами его товарищи, и где он сейчас, фронт? А он, Смеречинский, здесь, безоружный, голодный, избитый конвоиром за попытку поговорить с соседями по колонне, узнать, кто они, откуда.
Ну, нет, он не станет покорно работать на фашистов.
Смеречинский присматривался к соседям по бараку, где содержались такие же, как он, командиры Красной Армии. В лагере их переодели в захваченные немцами запасы польских мундиров. Днем не поговоришь: и на работах, и внутри лагеря — надзиратели, фашистские прихвостни из лагерной полиции и ее начальник Ершов, сдавшийся немцам при первой же возможности и насаждавший своих тайных осведомителей.
Холодными вечерами пленных загоняли в бараки, скудно освещенные лампой у входа; они забирались на нары, кутаясь в негреющее тряпье.
Соседом по нарам оказался бывший майор Михайлов. В ночных разговорах Смеречинский и Михайлов выяснили, что оба они артиллеристы, оба приняли первый бой на границе и отступали с тяжелыми боями. И семьи у обоих эвакуировались, но эшелоны немцы бомбят особенно ожесточенно. Живы ли родные и близкие? Об этом больно было думать.
Они обменивались соображениями, где сейчас могут идти сражения выдвинутых из глубины соединений Красной Армии, анализировали официальные сообщения фашистов, которые ежевечерне комендант зачитывал перед строем заключенных и хвастливо комментировал:
— Большевикам капут! В России устанавливается новый порядок!
Они думали, думали, думали до головной боли. Что делать? Как вырваться?
Немцы вроде бы становятся все более беспечными по мере того, как линия фронта уходит на восток, но караульная служба у них поставлена хорошо, шансов погибнуть много, если попробовать всем броситься на штурм вышек, а на успех — нет, был бы хоть какой шанс — его бы использовали доведенные до отчаяния люди, пусть из тысячи вырвался бы десяток, вдруг тебе повезет быть в этом десятке?
Шансов не было. Но делать что-то было необходимо.
Через некоторое время Михайлов отвел Смеречинского в сторонку.
— Николай, надо поговорить.
— Да мы и так все говорим да говорим, на всю жизнь нашептались.
— Тише. Предлагаю не разговоры — дело. Мы к тебе приглядываемся.
— Кто это — мы?
— У вас на Украине как говорят: попередь батьки в пекло не лезь? Узнаешь в свое время, кто именно. Мы — это руководители подпольной группы.
У Смеречинского перехватило дыхание:
— Подпольной группы?
— Да. Мы предлагаем тебе вступать. Дело опасное, Коля, сам понимаешь. Подумай. Потом сообщишь решение.