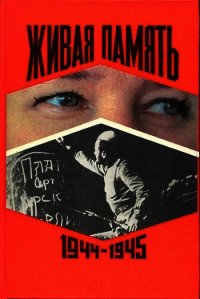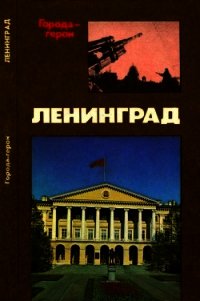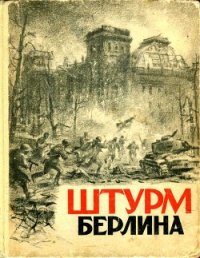Эхо фронтовых радиограмм (Воспоминания защитника Ленинграда) - Головко Василий Афанасьевич
Однажды в коридоре столкнулось несколько «хватальщиков». И когда начали охоту за кашей, официантка резко повернулась, поднос соскочил с ладони и тарелки с кашей полетели на бетонный пол. Боже мой, что тут было! Вместо того чтобы бежать с места происшествия, все бросились на пол и стали с бетонного пола слизывать кашу-размазню.
Конечно, эти выходки строго наказывались, выставляли дежурных по пути официантки, ловили «хватальщиков», но лично я каким-то образом избежал наказания, хотя и не раз пользовался этим способом.
Еще был и такой метод добычи пищи. Пищеблок располагался на первом этаже, а столовая на втором и третьем. Пища подавалась из пищеблока в столовую грузовым лифтом, а в раздаточной разливалась в посуду и разносилась по столам. Когда поубавилось курсантов, второй этаж пустовал, а кормились все на третьем этаже. Уже не помню, как возникла идея, кто был ее автором, некоторые курсанты, пробравшись на пустующим второй этаж, вскрывали дверцу грузового лифта и терпеливо ждали, когда пища пойдет на третий этаж. Задача состояла в том, чтобы изловчившись, на ходу зачерпнуть миской пли кружкой из открытого бака, стоящего на движущейся вверх площадке лифта, супа или каши. О том, что мы тем самым уменьшаем порции своих товарищей, как-то не думалось. Но лазейку эту прихлопнули очень скоро.
Ну и чтобы завершить описание «аморальных» действий в блокадную зиму, опишу еще одно. Как я уже говорил, со стороны Суворовского проспекта школу от города отделяла высокая решетка. Ежедневно, особенно по выходным дням, у решетки толпились гражданские лица с папиросами и табаком, который они меняли на пищу. При голодном рационе пищи в школе многие курсанты меняли кусочки хлеба на курево. Лично я ни разу такого обмена не делал, так как пищу, особенно хлеб, не мог держать в руках даже несколько минут — тут же съедал. А курить хотелось. Курил сухие листья с деревьев, кое-что давали и школе. Однажды, болтаясь у решетки и видя протянутые руки с папиросами, махоркой, табаком, я выхватил у какого-то парня пачку махорки и побежал вглубь двора школы. Решетка была высокая, и я никак не думал, что ее кто-либо одолеет, но вскоре тот парень догнал меня, отнял махорку, да еще и съездил по шее. Появление гражданского лица на территории военной школы, конечно, не осталось незамеченным. Нас перехватил часовой и доставил в проходную школы на Суворовском проспекте. Дежурный офицер допросил нас обоих, выяснил суть дела, а затем изрек:
— Махорка конфискуется, курсанта на сутки на гауптвахту, гражданина на улицу вон.
К решетке на Суворовском иногда приходил и мой отец. Жизнь его с тетей Дусей в блокадном городе была не слаще моей. Они также голодали, также терпели все невзгоды. Отец работал на заводе «Красный треугольник» простым рабочим, тетя Дуся — в какой-то организации. Привычка тети Дуси всегда держать в запасе продукты — здорово выручала ее и отца в тяжелые дни блокады. Отец же, работая плотником, всегда имел в запасе большое количество столярного клея. Ему и в блокадные дни удавалось экономить столярный клей на заводе и в небольшом количестве приносить его домой. Иногда он прихватывал с завода и небольшие бутылочки с олифой. Этот столярный клей, эта олифа, я убежден, спасли жизнь отцу, тете Дусе, да, видимо, и мне.
Из столярного клея тетя Дуся варила густой и вкусный студень. Это блокадное лакомство иногда перепадало и мне. Отец приносил студень в трехсотграммовой банке и передавал мне сквозь забор, как нечто самое бесценное. И это действительно было настоящее лакомство! Несмотря на звериный голод, я старался не сразу съедать студень — растягивал удовольствие как мог. Лизнешь немного, и терпишь, не дотрагиваясь до баночки. Иногда удавалось растянуть это счастье на два-три дня.
Я уже говорил, что в первые дни блокады подружился с Сергеем. В то суровое время делиться продуктами питания было не принято, но видя, какими печальными глазами Сергей смотрит на мой студень, я не мог удержаться и всякий раз капельку студня преподносил и ему. Он с благодарностью принимал этот царский подарок и тут же проглатывал его.
Олифа считалась ценнейшим продуктом блокадного времени. Отец кипятил ее, наливал в «четвертинку» и иногда приносил мне. Я теперь не помню, сколько раз за блокадную зиму он это проделал, но бутылочка с олифой и баночка со столярным клеем запечатлелись в памяти навсегда. Олифу я старался употреблять с умом. Бутылочка всегда была при мне, она находилась в сумке противогаза. Во время завтрака я чуть-чуть добавлял ее в кашу, а во время обеда — в суп. Не помню, улучшала ли олифа вкус пиши, но это было тогда не главным — здравый смысл подсказывал, что в моих руках средство, способное спасти от смерти. И я растягивал содержимое бутылочки по времени, насколько хватало сил и терпения.
На «Красном треугольнике» в шинном производстве, при склеивании автомобильных покрышек применялся какой-то порошок белого цвета. Работая на этом заводе, отец принес около килограмма порошка домой, думая, что это — мука. Приготовили тесто, и стали они с тетей Дусей печь на сковороде оладьи, а тесто вместо выпечки расплавилось и превратилось в жидкость. Долго они думали и определяли, что же это за «продукт»? На вкус — сладковат. Тогда отец попробовал есть тесто, оно было приятным. Съел немного, дабы не отравиться. Прошло довольно много времени, но отравления или каких-либо осложнений не последовало, и они с тетей Дусей понемногу стали употреблять это тесто в пищу.
При очередной встрече у решетки на Суворовском проспекте отец рассказал мне про свой «эксперимент» с незнакомым продуктом.
— Я и тебе немного принес, — сказал он, и протянул мне баночку от зубного порошка. — Смотри сам, будешь ты его есть или нет, но мы уже несколько раз пробовали.
Не задумываясь о последствиях, и с большим удовольствием я съел это «тесто», и, откровенно говоря, до сих пор не знаю: что же это такое было? Все хотел навести справки на «Красном треугольнике», да так и не собрался.
Не собрался я узнать и то, как отец добирался до меня. Жил он все-таки далековато от нашего училища. А трамваи и троллейбусы тогда не ходили. Был период, когда отец перестал появляться у решетки. Шли дни и недели, а его все нет и нет. Я ежедневно бегал к условному месту, но увы… Я стал волноваться, и наконец решил пойти в самоволку, добраться по городу до квартиры отца, узнать, что случилось с ним. Жил отец на 6-й Красноармейской, в доме на углу переулка Егорова. Квартира состояла из двух комнат. В большой комнате, метра 24, жили Васильевы — Николай Антонович и Аграфена Федоровна с маленьким сыном Вовкой. Другую, поменьше, размером примерно в двенадцать квадратных метров, занимал отец с супругой. Шестиметровая прихожая служила одновременно и кухней. Здесь стояла газовая плита, была раковина с водопроводным краном, столик, полочки какие-то. С кухни-прихожей был вход в маленький туалет. Вот и вся квартира, все «удобства». Но жильцы были и этому рады. Ведь отец с тетей Дусей до этого времени жили на 8-й Красноармейской еще хуже: две семьи в одной комнате (затем перегородками им выделили комнату размером пять-шесть метров).
Так вот, добраться с Суворовского проспекта до 6-й Красноармейской в блокаду было делом весьма не простым и рискованным, о чем я хорошо знал. Во-первых, самовольная отлучка из части грозила трибуналом или в лучшем случае длительным пребыванием на гауптвахте. Даже если в части и не заметят твое отсутствие, то в городе полно патрулей, и поэтому вероятность задержания постоянно висела над тобой дамокловым мечом. Но самая большая проблема — как добраться, как одолеть нелегкий путь. Физические силы на пределе и одолеть десяток километров было не просто. Город я знал хорошо и надеялся сэкономить силы, выбрав самый короткий маршрут.
Лучшим временем для отлучки было послеобеденное. Договорились с соседями по кроватям, что если меня будут спрашивать, то они скажут: он где-то на территории школы собирает щепки для печки. Но к ужину я собирался вернуться в часть и к вечерней поверке отчитаться.