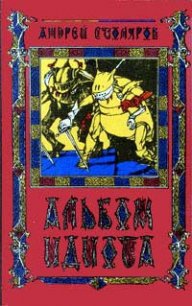Альбом для марок - Сергеев Андрей Яковлевич (читать книги онлайн бесплатно серию книг .TXT, .FB2) 📗
– Пулемет Максим Горький.
Лучшие наши часы с полковником Овчинниковым – на загаженном берегу Яузы.
Полковник Овчинников тянет себя за длинную верхнюю губу, исподлобья ищет взглядом. Нашел:
– Что вам, Фокин, закурить мне дать жалко?
– Вы какие предпочитаете, товарищ полковник?
Усмехаясь ноздрями:
– Чужие.
С особым чувством брал Беломор – затянувшись, разглядывал, читал надпись, витал мыслями. Мы расспрашивали про кабанчика, или сколько нашинковал капусты, или где доставал толь на сарай.
Неожиданно полковник спохватывался:
– Что вы меня в идиотство вводите? Мне, конечно, на вас наплевать – хоть вы кверху задницей, – но я вас воспитывать должен. Я, конечно, себя недисциплинированно веду, но вы-то должны.
После весенней сессии мы были должны. У института нас погрузили в автобусы, на Москве-Товарной – в телячьи вагоны, – и целые сутки тащили за двести километров.
Вялотекущее время, скученность и невеселые ожидания вызывали необычные для вгиковцев крамольные разговоры: своих фильмов шесть в год, дублируем покупные, снимаем одни фильмы-спектакли.
– Искусство в массы – все спектакли заснять, все театры закрыть.
– История советского кино делится на три периода: немой, звуковой и дубляжный.
Возникали общестуденческие песни – в институте их петь не подумали бы, я слышал почти впервые:
Лагерь стоял на болоте, солома в матрацах – выдали мокрую – не просыхала все двадцать дней. Комары заедали сплошь и в кровь, от мошки ценные лица народных артистов к утру становились подушками. Чтобы не нажить воспаления легких, мы с Микалаускасом спали, сцепившись локтями, спина к спине. Сменив поношенный ладный костюм на х/б б/у, он из сияющего европейца превратился в затруханного з/к, даже ссутулился и засеменил. Должно быть, глаза мои были красноречивы – Витас вскидывал брови и отвечал обольстительной жалкой улыбкой:
– Лучще, как в тюрме, – скоро выпустят.
Природа воздавала закатами – таких красивых, как от ровика на опушке, я не видел ни до, ни после – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, – и все разлинованы тонкими серыми тучками.
Иногда курсант с газеткой или в газетке тихо опускал взрывпакет, и в божественные небеса на фекалиях взлетали зазевавшиеся орлы.
В учебном поле курсанты изощрялись:
– Взво-од, бегом – ложись!
Полковники учили:
– И вошли мы в село, мать его, Сидорово.
– Мать твою етит-разъетит, сам, пиздюк, подорвесси! Поэты хуевы, пушкинские!
После изнурительной обороны, наступления или – хуже того – марш-броска с нас требовали строевую, да еще весело:
Мы выли вполголоса, пересобачивали или громко заводили свое, и нас – в час обеда – гоняли строем вокруг столовой, гремевшей ложками/мисками. Жрать хотелось ужасно, но не ячневую кашу с ружейным маслом, не кески – от хуя обрезки, – и мы не сдавались:
И самое центровое и недопустимое – Киплинг!
С непривычки к говноядению Микалаускас исходил поносом. Маленький оператор-азербайджанец в столовой ел только хлеб и, тоща́я, держался на сгущенном какао из ларька – больше там ничего не было.
Картошку я видел один раз – когда за провинность получил наряд на кухню – чистить гнилую – для офицеров. За один присест я услышал, запомнил, записал – ровно сто анекдотов. Для примера годится любой из школьных. Вот позабористее:
В семье подрос сын. Отец дал ему пятерку на блядей. В коридоре сестра говорит ему: – Тебе не все равно, с кем? Мне пятерка нужна. – После она говорит: – А ты лучше ебешь, чем папа. – Мама мне то же самое говорила.
Время отдыха у нас заматывали.
В воскресный день мы благоустраивали стадион или маршировали в честь заезжего генерала.
В послеобеденный час нам показывали заржавленный танк пенсионного возраста или заставляли украшать территорию лозунгами:
ОРУДУЙ ЛОПАТКОЙ, КАК ЛОЖКОЙ ЗА СТОЛОМ!
Приходилось сачковать. Предъявил сбитые ноги – полдня с сопровождающим курсантом на складе менял сапоги. То есть меняли их мы часа два, а потом на лоне природы сидели и молча курили. И на химии – оттянул на щеке маску, глотнул хлорацетофенона – после этого снова полдня, по велению санчасти, лежал на солнышке.
К природе я равнодушен. Надо было попасть в лагерь, чтобы в огромное мгновение покоя как событие переживать дерево, куст, поляну – не говоря уже о грандиозных закатах над ровиком. Это несмотря на то, что все протяжение сбора я жаждал одеревянеть: боялся снов – снились книги, не желал писем из дому – бередили.
В палатке фронтовик Николаевский на ночь делал зарубки: сколько прошло – сколько осталось.
Начали пропадать ружприборы: кто-то терял, а в конце надо сдавать.
Накануне откуда-то появилось спиртное.
Утром надсадно:
– Хр́-тя, в па́следний раз – па́д-ъём!
Поезд нам позабыли подать. Предложили пождать на довольствии день-два.
На платформе Федулово мы с боем взяли тамбуры пассажирского. Ждали во Владимире оцепления, но нас только выгнали из дверей. Между двумя вагонами может висеть шесть человек, седьмой, самый пьяный, сидит на корточках в середине. Кто-то на ходу швырнул взрывпакет в станционный базарчик. Железная дорога Федулово – Москва с приличной стоянкой во Владимире – всего шесть с небольшим часов.
На втором курсе нас понемногу приобщали.
Хохлова свозила нас на Мосфильм. В высоком грязном сарае – запах сырого бетона и соллюкса – Ромм [47] снимал костюмный Корабли штурмуют бастионы. Для постановки света перед камерой часа два загорали ряженые статисты. Потом на двадцать рабочих минут появилась леди Гамильтон (старая Кузьмина) и адмирал Нельсон (кажется, Ливанов). Ромм сидел в кресле и негромко дирижировал.