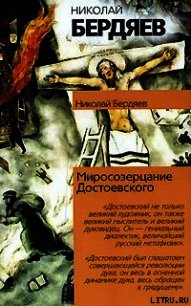Невероятная жизнь Фёдора Михайловича Достоевского. Всё ещё кровоточит - Нори Паоло (онлайн книга без TXT, FB2) 📗
Так уж повелось: как только речь заходит о Достоевском, сразу вспоминают Толстого – они как Лорел и Харди [31], как Эббот и Костелло [32], как Рик и Джан [33] или как мама и папа, о которых допытываются у детей: «Кого ты больше любишь, маму или папу?» Они неразлучны – так было и в начале двадцатого века, и в середине девятнадцатого, и во времена Достоевского, и во времена Хармса; так же было и когда я изучал русский язык тридцать лет назад. И это касается не только Толстого и Достоевского, но и Пушкина и Гоголя.
В последнее время, мне кажется, мода на Пушкина и Гоголя, а заодно и на Толстого с Достоевским, пошла на убыль, сейчас в моде, скорее, Светлана Алексиевич и Василий Гроссман, которых считают важнейшими (и обязательными к прочтению) авторами, помогающими понять, что происходит с миром сегодня, а может, я чего-то не знаю, тогда прошу прощения и открываю скобку, чтобы вкратце пояснить, к какому выводу приводит нас этот абзац: тот факт, что Пушкин и Гоголь, Толстой и Достоевский несколько утратили свою актуальность в современной повестке дня, по крайней мере у нас в Италии, имеет, на мой взгляд, свои плюсы; это пришло мне в голову, когда один мой русский приятель, знавший, что я люблю Велимира Хлебникова, Даниила Хармса, Сергея Довлатова и Венедикта Ерофеева, сказал однажды, что мне нравятся маргиналы, и, подумав, я понял, что он прав: мне нравятся маргиналы, но это неспроста, у меня есть на то свои причины.
Когда я учился в университете лет тридцать назад, многие студенты, учившиеся одновременно со мной, считали, что Вальтер Беньямин – важнейшая фигура для понимания нашей эпохи, что без его трудов сегодня никак. Моя первая инстинктивная реакция была: «Важнейшая фигура, говорите? Значит, я не буду его читать. Обойдусь без Беньямина, а там будет видно, как это на мне отразится, – рассуждал я. – Официально объявляю, что моя голова дебеньяминизирована, и мы еще посмотрим, кто от этого выиграет, – я или вы с вашими важнейшими трудами».
И так было не только с Беньямином – та же история происходила и с другими: например с тем изобретателем герменевтики, которому, как все говорили, принадлежат фундаментальные труды в области толкования понятий, – без их прочтения, мол, невозможно интерпретировать даже понятие «унитаз». Как его там?.. Гадамер?
Я не прочитал за всю жизнь ни одной строчки Гадамера, даже случайно. И не только Гадамера, но и еще одного философа, которого принято называть крупнейшим философом двадцатого века, этого немца, как его?.. Хайдеггера.
Не могу похвастаться знакомством с Хайдеггером – я не знаю названия ни одной его книги.
Я понимаю, что со стороны все вышесказанное характеризует меня как человека несколько невежественного, спорить не буду. Но моя непреклонность и, так сказать, аскеза иногда дорого мне обходились: например, в угоду им я пожертвовал Фрейдом. Однажды я прочитал его «Психопатологию обыденной жизни», которая мне очень понравилась, причем настолько, что я записался на курс психологии, посвященный исключительно Фрейду, и вот на первом же занятии профессор, которая тоже была мне очень симпатична (она носила немного старомодную юбку чуть выше колен), назвала Фрейда гением и сообщила, что его фундаментальные труды пролили свет на темные пятна человеческого разума и что без них наше представление о мире было бы искаженным и неполным; при этих словах, как сейчас помню, я подумал: «Да чтоб вас, его я тоже читать не буду!»
Повторюсь, я понимаю, что со стороны могу показаться человеком невежественным, в чем-то предвзятым, но, если разобраться, у меня на то есть причины.
Мне действительно нравятся маргиналы, как подметил мой приятель, а что касается авторов, которых вдруг объявляют сверхважными фигурами, цитатами из произведений которых пестрят книги и газеты и пересыпаны разговоры, модных авторов, на которых все, так сказать, подсаживаются (пока они в моде, на них подсаживаются все), если вам захочется узнать их поближе, то окажется, что это подавленные, измученные, издерганные люди, уязвимые и нездоровые, сидящие на таблетках, страдающие от лихорадки, анемии и одышки, переедающие, мало двигающиеся; всегда находится масса желающих носить их на руках, поэтому они становятся ленивыми, быстро устают, с трудом поднимаются по лестнице, говорят неохотно, от них можно услышать две-три мысли, которые они бесконечно повторяют, как попугаи; они кажутся слабоумными, но, скорее всего, так только кажется, возможно, сейчас просто тяжелый период, нужно набраться терпения, подождать лет тридцать, а потом, если копнуть поглубже, возможно, и удастся понять, что они хотели сказать, когда опьянение ими уже останется в прошлом, минует даже фаза похмелья; и вот тогда, протрезвев, можно услышать их прямую речь, без всякой герменевтики; на этом предлагаю закрыть скобку и завершить абзац, который и так слишком затянулся.
О Пушкине и Гоголе, отцах современной русской литературы («Все мы вышли из гоголевской шинели», – говорил Достоевский), до какого-то момента рассуждать было очень трудно, а вот сегодня трудно говорить об Алексиевич и Гроссмане, а значит, можно снова вернуться к Пушкину и Гоголю; поскольку разговор о Пушкине у нас уже был, поговорим о Гоголе.
Когда читаешь Гоголя (который родился в 1809 году, через десять лет после Пушкина), на память приходят слова Евгения Замятина, сказанные в двадцатом веке: «Я боюсь, что у русской литературы одно только будущее: ее прошлое».
Частный пристав из рассказа «Нос», как пишет Гоголь, «всему предпочитал государственную ассигнацию. „Это вещь, – обыкновенно говорил он, – уж нет ничего лучше этой вещи: есть не просит, места займет не много, в кармане всегда поместится, уронишь – не расшибется“».
Когда Акакий Акакиевич, главный герой повести «Шинель», проходит через кухню к портному, который вскоре возьмется шить ему эту самую шинель, мы видим такую картину: «Дверь была отворена, потому что хозяйка, готовя какую-то рыбу, напустила столько дыму в кухне, что нельзя было видеть даже и самих тараканов».
А когда Акакий входит в комнату к портному, тот работает, сидя по-турецки. «Ноги, по обычаю портных, сидящих за работою, были нагишом. И прежде всего бросился в глаза большой палец, очень известный Акакию Акакиевичу, с каким-то изуродованным ногтем, толстым и крепким, как у черепахи череп».
А чего стоит незабвенная круглая табакерка портного «с портретом какого-то генерала, какого именно, неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем и потом заклеено четвероугольным лоскуточком бумажки».
Жену цирюльника в «Носе» Гоголь описывает как «довольно почтенную даму»; в этой характеристике внимательный читатель узнает предтечу диалога в романе «Мертвые души» между «просто приятной дамой» и «дамой приятной во всех отношениях».
Гоголь не упоминает социального положения этих дам, чтобы обойтись без ярлыков; по той же причине он не называет должность «одного значительного лица», которое появляется ближе к концу «Шинели», когда главный герой Акакий Акакиевич, бедный переписчик в чине титулярного советника, несколько месяцев копит деньги, чтобы сшить новую шинель, которую у него тут же украдут. Пытаясь добиться справедливости, Акакий Акакиевич следует чьему-то совету и обращается к значительному лицу, которое в каком-то смысле и есть главная жертва всей этой истории.
«Нужно знать, – пишет Гоголь, – что одно значительное лицо недавно сделался значительным лицом, а до того времени он был незначительным лицом. <…> Обыкновенный разговор его с низшими отзывался строгостью и состоял почти из трех фраз: „Как вы смеете? Знаете ли вы, с кем говорите? Понимаете ли, кто стоит перед вами?“ Впрочем, он был в душе добрый человек, хорош с товарищами, услужлив, но генеральский чин совершенно сбил его с толку. Получивши генеральский чин, он как-то спутался, сбился с пути и совершенно не знал, как ему быть. Если ему случалось быть с ровными себе, он был еще человек как следует, человек очень порядочный, во многих отношениях даже не глупый человек; но, как только случалось ему быть в обществе, где были люди хоть одним чином пониже его, там он был просто хоть из рук вон: молчал, и положение его возбуждало жалость, тем более что он сам даже чувствовал, что мог бы провести время несравненно лучше. В глазах его иногда видно было сильное желание присоединиться к какому-нибудь интересному разговору и кружку, но останавливала его мысль: не будет ли это уж очень много с его стороны, не будет ли фамильярно, и не уронит ли он чрез то своего значения? И вследствие таких рассуждений он оставался вечно в одном и том же молчаливом состоянии, произнося только изредка какие-то односложные звуки, и приобрел таким образом титул скучнейшего человека».