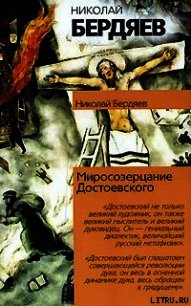Невероятная жизнь Фёдора Михайловича Достоевского. Всё ещё кровоточит - Нори Паоло (онлайн книга без TXT, FB2) 📗
Недоволен рассказом был и сам автор, и осенью 1846 года он приступил к следующему произведению – небольшой повести «Хозяйка», опубликованной в 1847-м.
«Я пишу мою „Хозяйку“, – сообщает он в письме брату Михаилу. – Уже выходит лучше „Бедных людей“. Это в том же роде. Пером моим водит родник вдохновения, выбивающийся прямо из души. Не так, как в „Прохарчине“, которым я страдал все лето».
Французский писатель Андре Жид, страстный поклонник Достоевского, рецензируя в 1908 году только что изданный французский перевод его «Переписки», отмечает: «Пожалуй, у нас еще не было примера писательских писем, написанных так дурно».
И возразить тут нечего. Но важно учитывать не только, как это написано («Пером моим водит родник вдохновения, выбивающийся прямо из души»), но и как сам Достоевский оценивал свои работы 1846 года: если «Господин Прохарчин» был проходным рассказом, писавшимся без всякой охоты, то «Хозяйка», напротив, написана с вдохновением («прямо из души»).
Виссарион Григорьевич Белинский писал о повести «Хозяйка» своего друга и протеже Фёдора Михайловича Достоевского, вышедшей в 1847 году: «Во всей этой повести нет ни одного простого и живого слова или выражения: все изысканно, натянуто, на ходулях, поддельно и фальшиво».
Другими словами: это не мы.
Это вообще не о нас.
Мы совершенно не такие.
Здесь все мимо.
Все не так.
Никуда не годится.
В знаменитой повести «Невский проспект», опубликованной в 1835 году, Николай Гоголь пишет:
«О, не верьте этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нему, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Все обман, все мечта, все не то, чем кажется! Вы думаете, что этот господин, который гуляет в отлично сшитом сюртуке, очень богат? – Ничуть не бывало: он весь состоит из своего сюртучка. Вы воображаете, что эти два толстяка, остановившиеся перед строящеюся церковью, судят об архитектуре ее? Совсем нет, они говорят о том, как странно сели две вороны одна против другой… Вы думаете, что эти дамы… но дамам меньше всего верьте».
Невский проспект – главная улица Санкт-Петербурга, пересекающая город в излучине Невы (Нева – главная река Санкт-Петербурга). Разрезая центральную часть города на две части, она минует Московский вокзал (куда прибывают поезда из Москвы); дом, в котором Достоевский почувствовал себя писателем; крупнейший торговый центр Санкт-Петербурга (Гостиный двор); первую государственную библиотеку в России, основанную Екатериной II (Публичная библиотека); самый большой в городе книжный магазин (Дом книги, бывший дом компании «Зингер», производившей швейные машинки); Казанский собор, в некотором роде уменьшенную копию собора Святого Петра в Риме; кафе-кондитерскую, из которой 29 января 1837 года вышел Александр Сергеевич Пушкин и отправился на дуэль, где был смертельно ранен; Зимний дворец, резиденцию царской семьи, с захвата которого началась революция 1917 года и в котором сегодня, помимо всего прочего, находится самый известный российский музей Эрмитаж; и многое другое.
Именно на Невском проспекте весной 1846 года к Достоевскому подошел молодой человек в плаще и широкополой шляпе и обратился с вопросом: «Какая идея вашей будущей повести, позвольте спросить?»
Это был Михаил Васильевич Петрашевский. Ровесник Достоевского, еще девятнадцати лет от роду, в 1840 году, он начал работать над рукописью, которую назвал «Мои афоризмы, или Обрывочные понятия мои обо всем, мною самим порожденные».
В годы учебы в лицее юный Петрашевский отличался вольнодумством, а в России в те времена свободомыслие не приветствовалось. В России девятнадцатого века назвать человека вольнодумцем было все равно, что в Италии тридцатых годов двадцатого века сказать о ком-то, что он демократ: по голове бы за это не погладили.
Петрашевский служил переводчиком в Министерстве иностранных дел и по роду службы имел доступ к запрещенной литературе.
Он был сторонником либеральных взглядов и республиканского строя, атеистом, социалистом и революционером.
Во время собраний, проходивших у него дома, читались труды Фурье и Прудона, шли споры о фаланстере и прогрессивном налогообложении. «Мы осудили на смерть настоящий быт общественный, – заявлял Петрашевский, – надо приговор наш исполнить».
Его поведение отличалось эксцентричностью (хотя с возрастом он и остепенился). «Один раз он пришел в Казанский собор переодетый в женское платье, стал между дамами и притворился чинно молящимся, но его несколько разбойничья физиономия и черная борода, которую он не особенно тщательно скрыл, обратили на него внимание соседей, и, когда наконец подошел к нему квартальный надзиратель со словами: „Милостивая государыня, вы, кажется, переодетый мужчина“, он ответил ему: „Милостивый государь, а мне кажется, что вы переодетая женщина“. Квартальный смутился, а Петрашевский воспользовался этим, чтобы исчезнуть в толпе, и уехал домой».
Он жил в маленьком деревянном доме в Коломне, одном из петербургских районов, описание которого находим у Гоголя (да, опять Гоголь) в повести «Портрет», изданной в 1835 году:
«Вам известна та часть города, которую называют Коломною? Тут все непохоже на другие части Петербурга; тут не столица и не провинция; кажется, слышишь, перейдя в коломенские улицы, как оставляют тебя всякие молодые желанья и порывы. Сюда не заходит будущее, здесь все тишина и отставка, все, что осело от столичного движенья. Сюда переезжают на житье отставные чиновники, вдовы, небогатые люди, имеющие знакомство с Сенатом и потому осудившие себя здесь почти на всю жизнь; выслужившиеся кухарки, толкающиеся целый день на рынках, болтающие вздор с мужиком в мелочной лавочке и забирающие каждый день на пять копеек кофию да на четыре сахару; и, наконец, весь тот разряд людей, который можно назвать одним словом: пепельный – людей, которые с своим платьем, лицом, волосами, глазами имеют какую-то мутную, пепельную наружность, как день, когда нет на небе ни бури, ни солнца, а бывает просто ни се ни то: сеется туман и отнимает всякую резкость у предметов. Сюда можно причислить отставных театральных капельдинеров, отставных титулярных советников, отставных питомцев Марса с выколотым глазом и раздутою губою. Эти люди вовсе бесстрастны: идут, ни на что не обращая глаз, молчат, ни о чем не думая. В комнате их не много добра: иногда просто штоф чистой русской водки, которую они однообразно сосут весь день без всякого сильного прилива в голове, возбуждаемого сильным приемом, какой обыкновенно любит задавать себе по воскресным дням молодой немецкий ремесленник, этот удалец Мещанской улицы, один владеющий всем тротуаром, когда время перешло за двенадцать часов ночи.
Жизнь в Коломне страх уединенна: редко покажется карета, кроме разве той, в которой ездят актеры, которая громом, звоном и бряканьем своим одна смущает всеобщую тишину. Тут все пешеходы; извозчик весьма часто без седока плетется, таща сено для бородатой лошаденки своей. Квартиру можно сыскать за пять рублей в месяц, даже с кофием поутру. Вдовы, получающие пенсион, тут самые аристократические фамилии: они ведут себя хорошо, метут часто свою комнату, толкуют с приятельницами о дороговизне говядины и капусты; при них часто бывает молоденькая дочь, молчаливое, безгласное, иногда миловидное существо, гадкая собачонка и стенные часы с печально постукивающим маятником. Потом следуют актеры, которым жалованье не позволяет выехать из Коломны, народ свободный, как все артисты, живущие для наслажденья. Они, сидя в халатах, чинят пистолет, клеят из картона всякие вещицы, полезные для дома, играют с пришедшим приятелем в шашки и карты и так проводят утро, делая почти то же ввечеру, с присоединеньем кое-когда пунша. После сих тузов и аристократства Коломны следует необыкновенная дробь и мелочь. Их так же трудно поименовать, как исчислить то множество насекомых, которое зарождается в старом уксусе. Тут есть старухи, которые молятся; старухи, которые пьянствуют; старухи, которые и молятся и пьянствуют вместе; старухи, которые перебиваются непостижимыми средствами, как муравьи, – таскают с собою старое тряпье и белье от Калинкина мосту до толкучего рынка, с тем чтобы продать его там за пятнадцать копеек; словом, часто самый несчастный осадок человечества, которому бы ни один благодетельный политический эконом не нашел средств улучшить состояние».