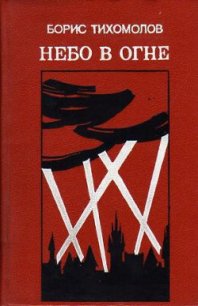На дне блокады и войны - Михайлов Борис Борисович (книга жизни txt) 📗
Утром мама встает раньше меня и в полной темноте кипятит чай (т. е. кипяток). Мы съедаем по кусочку хлеба, иногда погрызем дуранду или еще что-нибудь и идем на работу. Темно. Холодно. Мы пересекаем Пушкарскую и по Подковыровой выходим на Карла Либкнехта. На Васильевский трамваи не ходят. Сплошным потоком в обе стороны по трамвайным путям и по панелям идут голодные люди — сумрачные, серые, сосредоточенные. Тихо. Только шаркают многочисленные подошвы. Ни ругани, ни разговоров. Осталось в памяти, как видение: около Гребецкой упал человек на грязный снег панели. Ему не встать. Он пытается кричать, но крика нет — лишь какое-то тоскливое мычание. Он царапает коченеющими пальцами следы еще живых людей, пытается привстать. К нему никто не подходит. Толпа в сплошной темноте двумя еле живыми змеями обтекает его. Все идут на работу— там рабочая карточка, там жизнь. В этой толпе мы с мамой плетемся через Тучков мост, по Съездовской линии, затем сходим по аппарели на Неву, след в след обходим завешанный маскировочными сетями крейсер «Киров», который стоит, прижавшись к набережной, где-то в районе современного Дворца бракосочетаний. Главное подняться по обледенелым скользким ступеням на набережную и не упасть. У меня мама, которая мне обязательно поможет, а у кого нет? Около спуска на Неве прорубь, к ней с саночками ходят за водой люди из соседних домов. Вода и лед. Напоминанием об опасности уже второй день у подъема лежит труп старика с кружкой в замерзшей руке. Ему никто не помог. Сейчас каждый останавливается у подъема: не будет ли он последним? Мы помогаем друг другу. Дальше уже проще: через площадь Труда и по Красной улице. С работы мама уходит раньше, а я к обеду на рашпиле натираю кору, которую заблаговременно сдираю с каких-то поленьев во дворе (вероятно, с осины, ибо береза, ель, и сосна несъедобны). Затапливается общая печка, на сковородке я разминаю взятый с собой кусочек хлеба, мешаю его с корой, добавляю сколько можно олифы, все это прожариваю и, забравшись в дальний угол станкового цеха, съедаю.
Олифа пахнет олифой и отрыгается прогорклым постным маслом. Часа через два из общего чайника все пьют кипяток, каждый в отдельности, заправляя его кто чем может. Большинство пьет с глицерином. Олифа и глицерин — необходимые ингредиенты литографской технологии тех лет. В ноябре они уже становились «дефицитом» и выдавались со склада под строгий учет и только «на производство». Чай с глицерином пили, сторонясь соседей.
В нашем цехе из мужчин, кроме меня, еще регулярно приходят два старичка-хромолитографа. Один, высокий усатый, скоро умрет. Другой, маленький толстенький, останется жив, и мама его увидит после войны. Он приспосабливается: всюду узнает, что где едят, что где можно достать, постоянно прячет что-то за пазухой и подозрительно смотрит вокруг. Усатый же безучастно глядит в лупу на озверелые морды плакатных фашистов. Иногда он засыпает, точнее, впадает в предсмертную спячку. В это время женщины со страхом шепчутся в углу. Потом кто-нибудь шевелит усатого, а он подымает голову и тупо смотрит на удаляющуюся от него жизнь. Не пришел на работу сторож— говорят, умер. Несколько дней не появлялся директор Рыжков. Все очень волновались, но ко времени составления списков на получение карточек жена принесла бюллетень. К концу месяца умерли еще двое… Мы все страшно хотим есть. Мы тупеем и наш кругозор сужается… Перестала ходить на работу мама. У нее тоже бюллетень…
Иногда я иду в литографию иным путем: по Кронверкской до театра им. Ленинского Комсомола, направо по парку Ленина и дальше на Неву. Это короче. К тому же по Неве всюду протоптаны хорошие тропинки. Правда, говорят, что по парку ходить страшно (у кого-то еще сохранилось чувство страха!). Запомнилось одно холодное и черное утро в начале декабря (а может быть, в конце ноября). Я плетусь по узкой протоптанной в снегу тропинке мимо Госнардома. Слева на фоне звезд видны горелые остатки американских гор. Никого. Только вдали в густой темноте то ли стоят, то ли идут две фигуры. Впереди скамейка. На ней что-то лежит. Вокруг утоптанный темный снег. Я ускоряю, как могу, шаг, чтобы успеть быстрее тех двоих. Может быть, что-нибудь съестное? Подхожу ближе. На скамейке аккуратно сложены детские косточки. Мясо с них счищено. Залитая кровью голова почему-то упала со скамейки и валяется рядом. Досадно. Человечина у меня не ассоциируется с едой.
Где-то в середине ноября начались сильные морозы. На лестницах полопались водопроводные трубы и кое-где образовались наледи. На «девятке» в подвале остался действующим только один кран и к нему выстраивались длинные очереди. Мы с мамой чаще сидели в бабушкиной комнате, рядом с кухней, на которую оставшиеся жильцы иногда выходили что-нибудь готовить. Но квартира пустела. Скоро почти все куда-то исчезли, или, замкнувшись в себе, сидели по комнатам и не показывались в черных замороженных коридорах… Замолчало радио — последняя связь с миром, со страной, в неимоверных страданиях и усилиях залечивавшей раны первых месяцев войны.
И вот смерть подошла к нам… Таскать воду на пятый этаж, выносить парашу, где-то доставать дрова становилось не под силу. Все чаще я старался залезть под кучу разных одеял и тряпок, замереть и ждать маму. А мама… На ней были я и бабушка. Мама что- то думала, куда-то ходила, где-то что-то доставала и частенько совала мне в руку то кусок дуранды, то хряпу, то сладкую мороженую картошку, а иногда и кусочек хлеба, оторванный от своих 250 граммов. Однажды мама пришла и сказала, что договорилась со своей сестрой Сашей, чтобы бабушка жила у нее. Бабушке было уже за семьдесят, но она еще двигалась довольно бодро. Правда, иждивенческая карточка (125 граммов хлеба) уже сильно сказалась на ней. Бабушка сама без посторонней помощи спустилась вниз, как обычно перекрестилась на то место, где стояла взорванная в 1932 году Матвеевская церковь и, поддерживаемая мамой, пошла прочь, еще не зная, что больше сюда уже никогда не вернется. В тот день мама осталась ночевать у Саши.
САША — огромная толстая Саша с вечно торчащей изо рта папиросой! — таким мне запомнился другой мой блокадный Ангел-Хранитель.
Все мы звали нашу Сашу просто Сашей, хотя она и была старшей сестрой мамы. Мама стыдила, ругала нас с Ниной, говорила, что это тетя Саша, мы послушно кивали головой… до первой встречи.
К началу войны у Саши за плечами была бурная жизнь и двое уже взрослых детей. Старший Илья служил в погранвойсках, а младшая Женя с двухлетним сыном Аликом жила при ней. В 20-х годах Саша вступила в партию. В начале 30-х уехала на Урал среди «двадцатипятитысячников» создавать колхозы, и только незадолго до войны вернулась в Ленинград с майором. Майор скоро пропал, и мы снова днями торчали в ее безалаберном хлебосольном доме на Бармалеевой, 16. Сейчас этого дома нет. Его сломали на дрова в 1943 году. Дом был деревянный двухэтажный, глубоко вросший в землю, весь в зарослях черемухи и сирени. В его комнатах страшно скрипели дощатые полы и жарко топились печи. До наших дней дожил лишь старый тополь, на который мы, огольцы из соседних домов, лазали в те далекие-далекие времена (около троллейбусной остановки, №№ 1, 6, 34).

Наша Саша (за тридцать?) — Александра Николаевна Алексеева, сестра мамы — мой блокадный «Ангел-Хранитель». Умерла в 1945 г., чуть не дожив до 50-ти лет. Похоронена на Серафимовском кладбище.
Но до воспоминаний о Саше я еще кое-что хочу рассказать.
Прошла ночь. Наутро, вернувшись от Саши, мама подсунула мне под одеяло кусочек хлеба. Потом опять длинный путь на работу среди снежных заносов, льда, мертвецов, аккуратно зашитых в простыни и вынесенных ночью из домов родными или соседями. В иные дни спецбригады не успевали собирать трупы с улиц, и тогда покойники, особенно спрятанные в снежных завалах подворотен, вмерзая в снег, становились привычной частью пейзажа. Но, по-видимому, не только меня пугали полураздетые мертвецы со снятой обувью, без пальто, в неестественных позах валявшиеся на сугробах. Правда, такие встречались еще редко, но они уже напоминали о мародерах и убийцах, появившихся в городе.