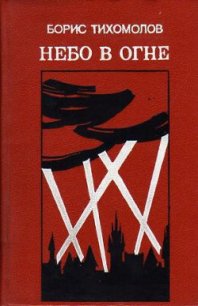На дне блокады и войны - Михайлов Борис Борисович (книга жизни txt) 📗
Покупатели другие. Они мордастые, воровато зыркают по сторонам и держат руки за пазухой — там хлеб, или сахар, а может быть кусок мяса.

Январь 1942 года. «Хлеб» на Кузнечном рынке. Рисунок В. Д. Скульского, 1980 г.
Мясо мне нельзя покупать — не человечина ли? Я подхожу к «покупателю».
— Продай! — то ли спрашиваю, то ли умоляю его.
— А у тебя что?
Я торопливо раскрываю перед ним все свое «богатство». Он брезгливо копается в пакетиках.
— Часы есть?
— Нет.
— А золото? — «Хлеб» отворачивается и уходит.
Иногда на рынке трусливо и воровато появляется военный. Этому надо табак и водку. Военные меняют быстро и дешево. У них всегда «богатые» продукты (хлеб, консервы, сухари, сахар…). Говорят, если военного поймают с продуктами, — расстрел. Но табак и водка необходимы сытому тыловику, томящемуся от безделья и отсутствия женщин. (Ведь нельзя же отнести к женщинам немощных, чуть живых блокадниц!).
Мясные консервы, галеты, американская тушенка, кусковой шоколад с военных складов поступали на блокадные рынки, вероятно, через подставных лиц. Да и как не быть такой торговле? Я уже приводил официальные нормы выдачи продуктов: «военный первой линии» получал некоторых видов продуктов несоизмеримо больше, чем блокадный иждивенец. Например, мяса в 17 раз!
Но вернемся на блокадный Кузнечный рынок.
Холодно. Коченеют ноги. Начинают противно покалывать пальцы рук. А я все брожу, с надеждой и заискивающей просьбой заглядывая в глаза «покупателей». Ходить надо до темноты. А попробуй разобраться в декабрьский ленинградский день, когда начинает темнеть? Я уже больше не могу, кажется, промерз до мозга костей, но спрятаться негде, кругом все закрыто, и всюду такие же безнадежные глаза.
Как нарочно, никто ничего не покупает. В такие дни особенно неприятно и стыдно возвращаться к мачехе, где отец будет с надеждой смотреть на мое пальто и считать пакетики. Сам он почти не ходит — пухнут ноги и кружится голова. Но, несмотря на это, отец стоически несет бремя хозяина, ответственного за всех.
Иногда мне фартит, и раньше времени кончается какой-нибудь товар. Тогда я бегу (если это можно назвать бегом) в тепло мачехиной комнаты, пытаясь что-нибудь засунуть в рот. Но все сосчитано, и у меня имеются строгие указания отца до какой цены можно «спускать»: соду и кислоту можно продавать за деньги, желатин, глицерин — только менять на хлеб, дуранду, мороженую картошку, хряпу, или другую еду.
Я победно и радостно выкладываю перед отцом все полученное и стараюсь подольше рассказывать, как это все было, частенько обволакивая продажу придуманными историями. Только бы затянуть рассказ, ибо время еще не вышло. Но на меня навешивается новая партия, и я иду «дорабатывать» до темноты.
Потом я скалываю с себя пакетики и мы все вместе пьем горячий чай в прикуску с рыночным приварком. Чай — это уже дважды или трижды прокипяченная земля с Бадаевских складов, которую в свое время натаскал уже умерший муж сестры тети Ксени. «Чай», когда он крепкий, темно-коричневого цвета, сладковатый, терпко пахнущий жженым сахаром и горелыми корками.
Разговоры… О чем мы тогда говорили за чаем?.. Нет, не помню…
Декабрь — это отчаянные попытки негодными средствами прорвать блокаду. Ценою огромных потерь наши войска вернули Тихвин, тем самым отбив у немцев всякую надежду на полное окружение Ленинграда. Декабрь — это бездарная авантюра, затеянная нашим командованием на Керченском полуострове и стоившая нам потери нескольких армий. Брось Сталин эти силы на подмогу наступавшей под Тихвином 52-й армии, и полтора миллиона ленинградцев остались бы живы. Ведь по свидетельству самих немцев положение их в декабре на Ленинградском фронте было критическим. Но, нет.
Уже в темноте я бреду по улице Марата до пустынного заваленного снегом Невского, перехожу на другую сторону, пересекаю Маяковского и дальше — в черную глубину двора — в мертвую заледенелую коммунальную квартиру, чтобы растопить печь и «похимичить» около ее открытой дверки.
Как-то я зашел в аптеку, что на правой стороне Невского, не доходя до Московского вокзала (она и сейчас там). На дверях висит инструкция, как приготовлять настой из сосновых иголок. Иголки продавались в белых бумажных пакетиках, похожих на те, что вешал на меня отец. Стоили они 25 копеек. Это стало частью моего вечернего «приварка». Больше ничего съедобного в аптеке не было.
Конец декабря. Надо идти в литографию за карточками. Работа временно прекращена из-за отсутствия электроэнергии. Утро. Еще совсем темно. Из-под кучи тряпья не хочется вылезать. Я высовываю руку, зажигаю коптилку. Изо рта идет пар. Затопить бы печку, но… лучше это сделать после возвращения — экономнее. Чешется тело, немытое уже с сентября, особенно руки. Я отстегиваю пуговицу на обшлаге бумазейной лыжной куртки, в которой спал, и чешу запястье, а там… ползают! Маленькие противные вши рядками выстроились у передних швов. Я отстегнул рукав: белые строчки гнид ярко видны в свете мигающей коптилки. Я со злорадным наслаждением щелкаю вшей и гнид около рукавов, но рубашку не снимаю: холодно, оставлю до вечера.
Мороз на улице жуткий — за тридцать градусов. В подвале замерз кран, но мне воды сейчас не надо. В чайнике она еще не замерзла. Я одеваюсь. У меня осеннее коричневое пальто. Под ним бумазейная куртка, дальше тощий вигоневый свитер и куча разных рубашек, двое брюк, кальсоны. Голова и лицо укутаны маминым шерстяным платком, к нему сверху привязана ушанка, ноги обмотаны шерстяными тряпками и засунуты в большие калоши, которые для крепости привязаны веревками. Руки в вигоневых рукавицах прячу в карманы…
Я выхожу на Невский.
По панели и по мостовой среди сугробов протоптаны тропинки и дорожки. Единственное средство перевозок — детские саночки. Странно, но даже сейчас — через полвека — стоит только услышать скрип их полозьев, как вместо уютно угнездившихся на саночках сонных карапузов мне видятся зашитые в простыни трупы, похоронно трясущиеся на рытвинах ведра и кастрюли с водой, разная домашняя утварь, которую отчаявшиеся ленинградцы тащили на рынки. На Невском почему-то прямо на мостовой кое-где действуют краны. Вокруг них копошатся кучки замотанных во всякое тряпье еле движущихся скелетов. Из крана тоненькой струйкой льется вода. Кружка наполняется и медленно выливается в посуду. Люди молчат. Они еще надеются выжить.
Напротив «Титана» свежие воронки от снарядов. Комья замерзшего асфальта и серый снег разбросаны чуть ли не до половины Невского. Новые тропинки боязливо жмутся к дому. Пересекаю Толмачева, Пролеткульта…
Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна.
Ну и пусть. Переходить на другую сторону все равно не буду!
Угол Невского и Фонтанки — обрушенный дом. Бомба попала в его середину. Клодтовских коней нет. Они где-то закопаны. Часть Гостиного двора сгорела. Около Пассажа посередине Невского большая наледь вокруг действующего крана. Холодно и пустынно.
У Мойки мороз уже нестерпим. Коченеют руки и лицо. Я тру нос— замерзает рука. Грею руку— белеет нос. Не могу. Захожу в булочную. Там много народу. Пугливо забираюсь в угол. В меня сразу же подозрительно с опаской впиваются глаза очереди: кто я такой? Зачем пришел? Я стараюсь не глядеть на людей, на продавщицу. Тело стянуто одной мыслью: только бы не выгнала! Дай хоть чуточку отогреться, иначе не дойду! Но уже из угла, где стоят весы, где так тепло и так пахнет хлебом, она — сытая и злая — кричит: «Эй, ты, убирайся вон!» — и угрожающе замахивается рукой. Я покорно пробираюсь к двери. Сердобольная старушка (а может быть, и не старушка, но что-то замотанное в тряпки), торопливо сует мне в руку «довесок». Это грамм 5—10 хлеба — «милостыня». Я, не сказав «спасибо», сразу засовываю ее в рот и выхожу. Мороз уже не кажется таким злым. Я поворачиваю на Гоголя. Здесь как-будто теплее: ближе дома и нет этого противного, все замораживающего ветра. На шпиль Адмиралтейства надет чехол. Купол Исаакия закрашен серой краской. Петр заколочен досками, а под ними обложен мешками с песком. По бульвару Профсоюзов стреляют. Многие деревья разбиты. На срединной аллее валяются побитые снарядами скамейки. Я неуклюже перелезаю через них и, наконец, выхожу на площадь Труда. Сюда снаряды попадают еще чаще. Побиты кариатиды у гастронома, решетка вокруг Дворца Труда местами исковеркана осколками, покорежена взрывной волной. Но сейчас все тихо, и я совсем не думаю о снарядах. Моя цель — литография. Только бы не заморозиться, а добраться до нее. Там будет мама, а она уж что- нибудь принесет… Вхожу во двор. Он пустой. Поленницы дров, с которых я когда-то сдирал кору, нет. В стене литографии огромная дыра. Это в наш цех попал тяжелый снаряд. Вокруг все засыпано снегом — мертво. Я пытаюсь добраться до дыры, но сухой сыпучий снег сразу лезет под мои тряпки. Смотрю в черный зияющий провал. Глаза жадно пытаются найти что-нибудь съедобное или горючее. Ничего. Все уже подобрано и унесено. Только искореженная станина моего литографского станка холодно поблескивает в сумраке ленинградского декабрьского дня. Наконец, вижу отломанную ручку лопаты и какие-то щепки. Все это привязываю к пальто, чтобы не держать в коченеющих руках, подхожу ко входу. Там приколота записка с корявым маминым почерком: «Сынушка, приходи завтра в час в университет, карточки будут давать там». Вероятно, ждать меня ей было уже невмоготу.