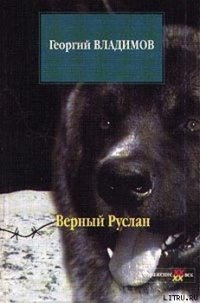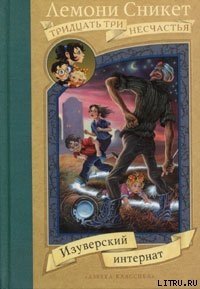Интернат (Повесть) - Пряхин Георгий Владимирович (книги без сокращений txt) 📗
Иногда начинал рассказывать о сыне. Или принимался петь.
Как только Вася порывался петь, его мать, смирная, аккуратная, несшая крест без видимого надрыва, снималась с места, обхватывала его плечи, приникала к нему, как будто хотела притушить пламень, что жег и бил его изнутри:
— Не надо, Вася, не надо…
Наше знакомство продолжалось потом несколько лет, до самой Васиной смерти. Один-два раза в год по его просьбе друзья вывозили Васю в степь… Он сам выбирал место для охоты, ложился в траве навзничь, клал рядом ружье, и по давно заведенному правилу друзья безропотно покидали его, оставив ему на несколько суток запас еды и воды. Вася хотел охотиться, а не побираться с чужой охоты. С какой же выстраданной точностью он должен был выбирать это единственно верное место для своей засады, и с какой же страстью — страстью глухого, — должен был внимать безответному степному небу!
Когда за ним приезжали, он, как правило, лежал все в той же позе, похудевший, с резче проступившими скулами, и то ли от худобы, то ли от одиночества просветлевший.
Его провизия оставалась рядом почти нетронутой, и Вася был голоден, зол и весел. Его добыча, чаще всего дикие утки, была уже обработана, и тут же, на траве, начинался охотничий пир.
Стрелял с такой точностью, что утки падали рядом с ним — во всяком случае Вася мог собрать их ползком.
Смог бы он сутками лежать в степи, если бы не знал подробностей, которыми поражал меня, если бы не знал ее капиллярной жизни? Точно так же, как тоска, снедавшая Васю в четырех стенах, проецировала эти подробности в мощный ошеломляющий образ, точно так и само это знание возводило клочок степи, по существу могилу, в которой заживо погребен Вася Глотов, в десятичную степень могучего, полнокровного, притягательного мира, воздействующего на всю клавиатуру человеческих чувств.
Вася сам был подранком и потому место для засады находил с такой же точностью, с какой находит единственную спасительную, не запятнанную человеческими следами тропинку истекающий кровью зверь.
Это надо же — залечь так, чтобы утки летели через тебя! Залечь, определиться даже не в степи, а в целом небе.
В весенней, цветущей, сбивающей нас со следа запахами и красками, ветром и солнцем степи, в болезненной охоте, захватывающей нас в шестнадцать лет, я тоже был Васей Глотовым.
Когда я впервые увидел ее? Наверное, в мартовский день, когда Катя привезла меня в интернат. Увидел всех и среди всех — ее. Какой она была в тот первый день? А Бог ее знает — понадобилось несколько месяцев, целых полгода, чтобы она выделилась, выкристаллизовалась из всех. Сколько себя помню, всю жизнь в кого-то влюблен. Всю жизнь в сердце сладкий, ноющий груз. Вот только с годами оно как-то легчает, подсыхает, выветривается, как выветривается и само тело; руки, шея, грудь. И в интернате мне потребовалось не больше трех дней, чтобы влюбиться в Аню Арнаутову, тихую, монашеского стана, с лицом, занавешенным густыми ресницами. Достоинством Ани было и то, что она сидела на первой парте. Смотришь на преподавателя, ловишь каждое слово — видишь Аню. Полгода смотрел на Аню, не подозревая, что здесь же, в классе, выкристаллизовывается девочка Лена, кристалл к кристаллу — чтобы однажды солью, дробинкой, кристаллом достать меня. Мышечные ткани обволакивают инородное тело, отсюда ощущение тяжести. Инородное. А может, самое родное, до сих пор отзывающееся сладостью и болью? Что такое сердце — самая сильная, дольше всех сохраняющая молодую упругость мышца. Двуглавая мышца, и по форме, и по своей плотности, жизнестойкости удивительно напоминающая яблоневое семечко…
Мы купались в озере. Это озеро со странным именем Буйвола — не Буйволица, а Буйвола — лежало рядом с интернатом. Махнешь через забор, спустишься метров на триста в низинку, и вот оно — плещется у ног. Мутно-зеленое, волокнистое, особенно в ветреную погоду, проросшее в степи, как занесенный ветром злак, как лишай. Оно было здесь неожиданным и начиналось так, как начинаются в пустыне все озера и моря: без переходов, без крепостных лесенок деревьев и кустарника, переброшенных с одной стихии на другую и хлипко болтающихся на ветру. Никаких переходов: идешь, идешь по полыни — и сразу в воду. Такую же горькую, как полынь, такую же теплую и похожую на пепел. Помните, идешь по полыни — как по еще теплому ветру.
По преданию, хан Батый затопил в озере золотую колесницу. Сколько знаю степных озер — в каждом затоплено по колеснице. Самый разудалый, самый русский образ богатства: в каждой луже — по золотой колеснице.
А вообще-то кому как, а для меня эта голая, выпуклая вода в степи таинственнее, чем какая-нибудь гнилая прорва в лесной глухомани. Батый. Запалившиеся кони жадно пьют у берега, и их вытянутые шеи дрожат от напряжения, как вонзенные в воду лезвия складных ножей. Почему кони? Раз Буйвола, значит — буйволицы. Буйволицы в колесницах — кровосмешенье веков и народов…
А может, все проще: в неправильной форме множественного числа — буйвола? Тенденция распространенная, особенно в просторечье — шофера, трактора… Если долго смотреть на уходящее к горизонту озеро, то в самом деле на мгновение может показаться: идет по степи тяжелое, безмолвное стадо. Голодно опущены головы, ни ноги, ни туловища не различимы, лишь гряда за грядой мерно колышутся на поверхности стада холки и спины, сливаясь вдали в сплошную зыбкую массу то ли воды, то ли неба.
Каким-то образом мы очутились на озере классом — наверное, заболел кто-то из учителей, и не было последнего урока. Плескались, дурачились. Рядом с нами купались городские ребята. С городом у нас довольно сложные отношения, оптимистично выраженные в интернатской присказке «погнали наши городских!». Купаясь, оторвался от своих и заметил, что рядом со мною городской парень забивает брызгами заплывшую сюда, далеко от берега, интернатскую девчонку Лену Нечаеву. Она вертела головой, закрывалась руками, но парень, поставив ладонь щитком, старался бить по воде так, чтобы жесткий, густой пучок брызг непременно попадал ей в лицо, в глаза. Выражение его собственного лица было не шутливым, а злым, хищным. Клевал ее, как кобчик, почуявший кровь.
Проплыть, сделав вид, что ничего не заметил, — это не в правилах интерната. К тому же никогда еще за спиной у меня не было такой поддержки — целый класс!
— Остынь, парень, — сказал я, тронув его за плечо.
Он обернулся — с тем же ястребиным выражением на лице, — хотел что-то ответить, но я показал ему на своих одноклассников, которые резвились у берега и, без сомнения, порадовались бы неожиданной возможности почесать кулаки, и парень молча поплыл восвояси. Вот вам преимущества организованной жизни: городские классом купаться не ходят, они все больше парами… Погнали наши…
Девчонка отняла руки от лица.
Не выбирайте лошадь в дождь, гласит пословица, в дождь они все справно лоснятся.
Выбирайте любимых исключительно в водоемах: реках, озерах, морях. Это так просто — все лоснятся. Все красивы.
Она могла бы и не отнимать ладони — я уже любил ее. Любил в ней собственную смелость: не так часто удавалось проявлять ее.
Аня Арнаутова тонула на моих равнодушных глазах.
Девочка отняла ладони, влажно блеснули ее круглые карие глаза. В первый и, пожалуй, в последний раз я открыто рассматривал их — в дальнейшем это придется делать украдкой, подстерегать их на всех перекрестках, стараясь в то же время не столкнуться с ними. Извечная, болезненная игра: всюду искать чьи-то глаза, рваться к ним сквозь людскую сутолоку и одновременно непонятно почему робеть перед ними.
— А ведь ты, Гусев, меня не догонишь…