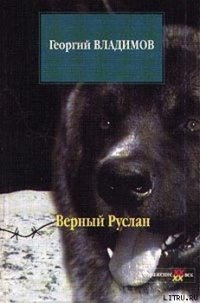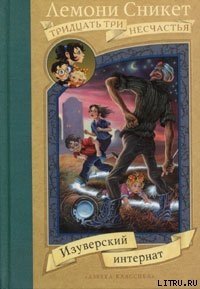Интернат (Повесть) - Пряхин Георгий Владимирович (книги без сокращений txt) 📗
Сложность заключалась и в другом. Давно заметил: подростков, росших без родителей, особенно без отцов, нелегко научить более или менее тонкому физическому труду. Сужу по себе. Что умею? Таскать мешки, рыть траншеи… Да вот еще, слава богу, вязать коленчатые валы — спасибо Алексею Васильевичу: может быть, самое тонкое и самое надежное из всех моих ремесел. А заставь копешку сена свершить, и она развалится. Помню, мать не выдержит, выхватит молоток: «Да куда ж у тебя руки приставлены, смотреть тошно!..» А у самой — тоже не туда приставлены, смотреть горько, как она с этим молотком, как с перебитым крылом…
Управлять умом можно выучиться по книжкам. Управлять же своим телом — а что есть тонкий физический труд, как не совершеннейшее управление собственным телом? — можно только так: ладонь в ладони. Как учатся ходить. А тут — ладонь повисла, уперлась в пустоту, как у слепого…
Может, потому и из девчонок-детдомовок не получаются искусные, добродетельные хозяйки, хранительницы домашнего очага — они зачастую нервны и неумелы…
Никто, конечно, ничего путного в первый день не сделал; один гаечный ключ подержал, другой ветошью по деталям прошелся, третий за пивом для бригады сбегал. Я же — сделал. Собрал коленвал! Показав мне первые приемы. Маслюк сказал, что ему надо к дефектовщику. И ушел. Я смотрел ему вслед. Его сгорбившаяся стариковская фигура спокойно, по-свойски двигалась среди станков, тельферов, среди шумного нагромождения железа — как на старости ходят в саду. Ждал его пять минут, десять — Маслюка не было. Что делать мне, он не сказал. Сидеть вот так на верстаке? Уйти? На свой страх и риск взял первый попавшийся коленвал, с горем пополам установил его, проверил индикатором шейку — с таким же успехом мог бы проверять ее методом интегральных уравнений — поднял с полу маховик: действительно, не так лихо, моя спина пусть на минуту, но очень явственно повторила застывшие контуры Маслюка… Когда дед вернулся, я, вытирая рукавом разом вспотевший лоб, сбрасывал готовый, укомплектованный вал на глиняный пол. Маслюк толкнул его ногой к обшей груде и сказал:
— Так значит — Гусев?
— Гусев, — ответил я, еще не зная, что последует за этим: нагоняй или похвала.
— Ну-ну, — последовало.
Стало быть, похвала, понял я по Маслюковым глазам. Глаза Маслюк спрятать не мог, даже если бы хотел; толстые, как пуленепробиваемые, стекла очков собирали в фокус их неяркий рассеянный свет, и как бы угрюмо ни разговаривал с тобой Маслюк, по лицу у тебя все равно ходили солнечные блики.
С дефектовщиком он меня, конечно же, надул. И кто знает, не вытурил бы меня в первый же день ученичества, просиди я этот час сложа руки.
Зато на будущее у нас так и повелось; Гусев — крупно и чопорно величал меня Алексей Васильевич. И никак иначе.
В обеденный перерыв вновь собрались в кабинете по технике безопасности. Распределили захваченную из интерната провизию — банка кабачковой икры и булка хлеба на четверых — и принялись обедать. Сколько этой икры съели за интернатские годы; нам отпускали ее сухим пайком, когда мы ехали на подсобное хозяйство, частенько давали на завтрак или на ужин и теперь — на обеды в кабинете по технике безопасности. Банка на четверых! — железный закон военного коммунизма. И все равно она так и не надоедала нам. Как и тот хлеб — булка на четверых (а хлеб в неурожайный год был со странным для наших хлебных мест названием «забайкальский» — и столь же странного, непросеянного вида)… Надоедает, когда тебе достается больше, поровну — не надоест.
Обедали, обмениваясь мнениями о своих новоиспеченных учителях, когда дверь кабинета отворилась, и вошел Алексей Васильевич. Мы сидели на полу, так нам было удобно, а Маслюк стоял в дверях, длинный, нахохлившийся, загнутый сверху в целях совершенствования технологии ремонта коленчатых валов… Поискал глазами меня:
— Ты мне нужен, Гусев, пойдем…
Спускались с ним в цех по железной, залитой соляркой лестнице. Маслюк шел впереди, осторожно, по-стариковски придерживаясь за колеблющиеся перила, и, не оглядываясь, что-то недовольно бубнил под нос:
— Нечего отделяться… Единоличник, едри его пять! — разобрал я, ничего толком не понимая.
Пришли к нашему рабочему месту. Он вытащил из тумбочки брезентовую, несшую все следы нестерильного производства сумку, разложил на железном, грубо сваренном столе, который предназначался для железа, а не для еды, яйца, хлеб, лук, сало, поставил бутылку молока. Впредь он будет вынимать из своей измочаленной, как кошелек скупца, брезентовой сумки не одну, а две бутылки с молоком или кефиром, смотря по временам года. Если лето — с кефиром, потому что молоко до обеденного перерыва не выдерживало, скисало. Я выдерживал, хотя, каюсь, меня подмывало заглянуть в сумку пораньше: Маслюкова старуха взяла за обыкновение подкладывать в нее чего-нибудь сладкого, дразнящего, чего, думаю, не делала последние тридцать лет. Железный Маслюк, по-моему, и ел всю жизнь что покрепче (как и пил!), понадежнее, пожелезнее: сало, хлеб, лук… Набор слесарных инструментов. А тут — потакал. Что-то недовольно бурчал под нос, но все равно потакал.
Плата нам не полагалась, но Маслюк в день аванса или зарплаты на полном серьезе отсчитывал пять-шесть рублей и буквально всучивал их мне. Двумя жесткими, костлявыми пальцами всунет в нагрудный карман моей сорочки эту денежку — как насквозь проткнет: «Заработал, Гусев!» Делал это прилюдно, но что-то последователей у него я не видел. Никто из других учителей никаких всучиваний ученикам не производил — не думаю, что из-за чрезмерного сопротивления последних. Пожалуй, я влетал Маслюку в копеечку не только из-за этих плат. Без меня он работал бы молча. А значит, и сделал бы больше, и лучше бы заработал…
Я сказал, что жизнь поправляла Учителя, а тут пока никакой поправки нет. Один — идеалист, и другой, получается, идеалист… Рассказываю, собственно говоря, ради одной-единственной фразы, хочется помягче подвести к ней читателя. Но прежде чем написать ее, все-таки надо сообщить еще одну предысторию этой фразы, ее предпосылку.
Когда учились в десятом классе (а тогда, повторяю, был еще и одиннадцатый), старшие классы в интернате решено было расформировать. Сделать его восьмилетним. Процесс расформирования старших классов проходил болезненно. Многих из нас на год, а то и на два раньше привычного срока ставили перед самостоятельным выбором: другой интернат, детский дом — для тех, у кого не было родителей, вечерняя школа или родня, у кого она, разумеется, была. Все годы мы рвались к самостоятельности, удирали в нее, а тут вдруг спасовали. Растерялись. Я тоже был на перепутье: в детский дом идти не хотелось (в семнадцать-то лет!), к родственникам тоже. Заикнулся об этом Маслюку. Тот подумал и сказал:
— Иди на завод — в тепле работать будешь.
«В тепле работать будешь» — это и есть ключевая фраза.
Дело не в том, что Маслюк посоветовал идти на завод. Фокус в том, как он этот выбор аргументировал. Сколь неудобств в Маслюковой работе — и грязно, и тяжело, и осанка портится, а он определил самое верное, самое надежное достоинство: в тепле! А разве не так! Разве не помню я, как моя мать после работы на так называемом открытом воздухе тащилась домой с вязанкой соломы для нашей Ночки (подъехать нельзя: в таком случае солому заставили бы скинуть — это же откровенное воровство, поэтому женщины уходили со степи самотеком, с вязанками, а положенная им бричка тилипалась пустой, разве что ездовой охапку сенца «под задницу» бросит), как она остервенело швыряла солому у порога и, войдя в хату, молча кидалась к ведру с холодной водой. Опускала в него красные, распухшие, ошпаренные морозным ветром руки, повторяя: «В зашпоры зашли… В зашпоры зашли…», и по ее лицу, такому же ошпаренному, катились светлые, как в детстве, слезы.
Мои одноклассники еще учились, доучивались последние дни предпоследнего учебного года, после которого нас и расформировали, а я уже работал. По личному ходатайству Маслюка, явившегося однажды прямо в приемную нашего директора, — я остолбенел, нечаянно увидав его в этом тщательно избегаемом нами предбанничке, торжественного, в костюме с ватными плечами и с оттопыривавшейся на нем медалью «За боевые заслуги», — мне разрешили определиться на завод недели за три до конца учебного года. Я еще считался воспитанником интерната, за питание не платил, жил еще тоже в интернате и тоже бесплатно, так что трехнедельный заработок должен был составить мой первоначальный капитал.