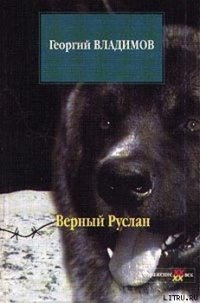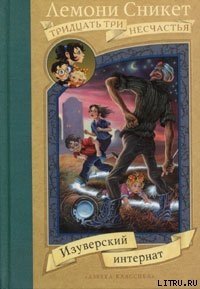Интернат (Повесть) - Пряхин Георгий Владимирович (книги без сокращений txt) 📗
Женя Орлов чаи гонять не умел — за что и поплатился.
Мы стояли перед нею, а она стояла против нас. Всем существом — против. Раскинула руки, уперлась ими в притолоку и намертво застряла в проеме двери. Глаза злые, запавшие, кожа под ними уже посеклась и пожухла. Но руки у нее еще молодые, еще красивые и, по всей видимости, еще жадные. Заголенные по самые ключицы, они бесстыдно являли нам ту незагорелую, обычно потаенную, внутреннюю, еще не перезрелую мякоть, что так похожа на нежное змеиное брюшко. Мы старались не смотреть на два бесцветных вялых кустика у нее под руками, но их едва уловимый, еще незнакомый запах касался каждого из нас — так на всю хату неуловимо пахнет подвешенный в сенях пучок пересохшей полыни.
— Какого черта вы сюда приперлись? Сыщики нашлись, сопляки несчастные. А ну, валите отсюда!
Она, можно сказать, гнала нас взашей, а мы словно приросли к порогу.
Слишком молодая у Коли Миронова мать — лет на восемнадцать старше нас.
— Кому сказала: поворачивайте оглобли! Ну-ка…
Мы сопели, как впервые запряженные бычки, и оглобель не поворачивали. Женщина начала новую яростную атаку, но на полуслове остановилась и деловито осведомилась:
— Вы сами или вас милиция прислала?
— Сами, — сказал Гражданин и шагнул на порог.
— Ну и черт с вами, — махнула обмякшей, постаревшей рукой и посторонилась. — Проходите.
Маячивший за ее спиной Коля мгновенно прилип к стене и растопырил руки, приготовившись к обыску, равно как и к распятию.
Обыскивать его мы не стали. Гуськом прошли в комнаты, и здесь с нас слетела вся наша решимость. Прямо на нас двинулась огромная, никелированная, рафинадного белья кровать, царившая в комнате, как алтарь, как зубоврачебное кресло с архитектурными излишествами бесчисленных сияющих загогулин и по-жабьи рассевшихся подушек. За нею шел ковер, изображавший во всю стену что-то сельское. Прямо на нас, позванивая хрустальными сопельками, пикировала дорогая люстра. Шестеро обормотов подозрительно осматривали нас из смежной комнаты. Они были растеряны, и это помогло нам узнать в них самих себя. Оказывается, мы прошли в комнату сквозь триумфальную арку трехстворчатого зеркала.
Что там было еще, не помню. И вообще с высоты сегодняшнего благополучия надо признать: вещи в доме были заурядными и не такими уж дорогими. Расхожий, почти умилительный стандарт приличной жизни: люстра, трельяж, ковер, ну и никелированная кровать — уже тогда в моду входили деревянные кровати, но представления о приличной жизни меняются медленнее, чем мода, к тому же, вероятно, Колиной матери сверкающее чудо досталось не так легко, чтобы отказаться от него по первому поветрию. Скорее всего с этого никелированного пупка, уже отставшего от других частей благополучного, раздобревшего тела, и завязывалось довольство в доме. Приличная кровать долго была мечтой, а с мечтами мы, к счастью, расстаемся пока труднее, чем с вещами.
Обычный дом обычной продавщицы. Но интернат с его спальней на шестнадцать клиентов не привил нам вкуса к приличной жизни, этот урок сметой не предусматривался. И потому мы в первую же минуту растерялись под наглым натиском барахла, всех этих салфеток, ковриков и дорожек, а главное — под грозным, презрительным взглядом домашнего покоя, уюта и — чистоты. Невероятной чистоты! Столбу света, лившемуся из окна, не за что было зацепиться в воздухе — ни пылинки! — и он тяжело, с размаху шлепался на пол, высвечивая под тонким слоем охры живое, с жилочками, дерево. Каждый наш шаг вперед был шагом государственных преступников по любовно вспаханной и выполотой контрольно-следовой полосе.
И мы дрогнули. Мы побежали.
Торопливо, стараясь не встречаться глазами, осмотрели первую комнату — я еще с порога заметил на этажерке, под расшитой маками салфеткой свою книжку «Час космоса» И' пройдя вперед, вытащил ее из слежавшейся стопки. Зачем, спрашивается? Что я помню из нее, кроме названия?
Кто-то, кажется, Смирнов, обнаружил в сенях свою шапку — а стояло лето — тоже молча забрал ее, как украл, и мы, подталкивая друг друга, потные и подавленные, вывалились во двор.
Как воры.
Узнав, что мы не из милиции, мать Коли Миронова потеряла к нам интерес и только иногда, пока мы, разувшись совершали свой опасливый набег, поглядывала на нас — чтоб не взяли лишнего.
— Инкубаторские, — сказала в сенях, протяжно оглядывая нас, обувавшихся после скудного разбоя. Этот взгляд мы почувствовали затылками, взмокшими, напряженными, еще раздвоенными и не окостеневшими у основанья, не переросшими пока в дубовые мужские загривки, которым хоть кол на голове теши.
Коля по-прежнему стоял у стены. К нему возвращалась жизнь. Лицо у него стало розовым, как половица с просвечивающими капиллярами, закрытые глаза его были нахальны.
Многие подробности, этого события тоже стерлись в памяти. Как, при каких обстоятельствах белобрысенький Христос Коля Миронов был уличен в кражах? Кому пришла мысль пойти к нему домой с самочинным обыском? Наконец, кто был в сыскной группе, кроме меня и Гражданина (без которого не обходилась ни одна дырка)? Все ушло из памяти, впиталось в сухой и сыпучий песок. Осталось ощущение мрачной решимости, с которой стояли у порога озлобленно, по-бабьи противостоявшей нам женщины. И вместе с тем — ощущение женщины, подвядшей, с надкусом и при всей своей крикливости беззащитной перед нами. Расточительная Ева соблазняла Адама посредством плодов, а дешевле было бы — посредством сучьев. Мужик с дубиной — уже без малого насильник. И тогда, стоя у чужого порога, мы, еще волчата, чувствовали свою сумрачную, нам самим пока непонятную силу, свое превосходство над этой шебуршащей бабенкой, и из этого чувства, скорее предчувствия, родилось другое, совсем неожиданное, особенно если учесть, зачем мы пришли к этому порогу; за ее злостью, за суетным страхом, почти за никчемностью, за всеми этими барабанными помехами или вследствие них мы расслышали влекущий женский зов. И Гражданин по-хозяйски шагнул на порог: «Мы не из милиции».
Будь Колина мать не так еще молода, вряд ли мы вошли бы к ним…
Несколько дней спустя в классе было собрание. Его собрала Зинаида Абрамовна. Она же сформулировала повестку: «Единодушное осуждение поступка учащегося Н. Миронова».
— Слушаем сначала тебя, Николай, — сказала она, и все приготовились слушать арию Христа.
И Христос запел: про тяготы жизни, про мать-одиночку, про то, что у нас в спальне всегда некоторый беспорядок, и, ликвидируя его, он кое-что из вещей по ошибке занес домой.
Пел с вдохновением. Его белые волосики слиплись, глаза подернулись дурманом. Сам собой заслушивался.
— Кто выступит? — спросила классная, когда Христос скромненько и покаянно исполнил заключительную фразу: «Больше не буду».
Класс изучал Христоса любопытствующими, даже несколько удивленными взглядами, но выступать никто не рвался. После обыска интерес к истории пропал, страсти угасли.
— Что же вы молчите? — беспокоилась классная. — Неужели вам нечего сказать товарищу, который совершил скверный проступок?
Товарищ сел на свое место, склонил голову набок, подпер ее ладошкой и терпеливо ждал, готовый внести посильный вклад в развитие отечественной педагогики.
— Повторяю: кто хочет выступить?
— А чего тут выступать? — мрачно отозвался с последней парты Кузнецов. — Прикончить его, и все тут.
Головка у товарища испуганно дернулась, торжественное, значительное выражение на лице сменилось неуверенной улыбкой: к такому педагогическому эксперименту, в отличие от своего известного однофамильца, он был не готов. Зинаида Абрамовна, чувствовалось, тоже: лицо ее вспыхнуло, она с непривычным проворством покинула стул:
— Тебе бы все шутки шутить, Кузнецов. А здесь речь идет о судьбе товарища…
А он, между прочим, и не шутил. Так, ляпнул от нечего делать.
В дальнейшем судьба Коли Миронова сложилась вполне прилично, да она и не могла сложиться иначе, а вот Кузнецов угодил в тюрьму — за кражу, говорят. Жизнь коварно поменяла их местами — и так бывает.