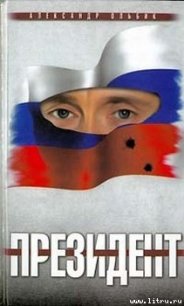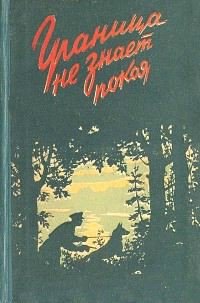Граница нормальности - Цыбиков Ч. (читать книги полностью TXT) 📗
А, вот как, подумал я.
— Хочешь, поедем со мной, — вдруг сказал Алексей. — Он большой человек на телевидении. Я скажу ему, что ты меня… ну, что не бросил. Начальником станешь. Серьёзно, клянусь тебе. Он мой хороший друг.
— Да нет, — говорю. — Спасибо. Я лучше домой.
— До метро тогда вместе доедем.
— Доедем.
Тачку поймали не сразу, несколько машин вроде тормозили, но, увидев лицо Алексея, ехали мимо. Не моего же лица они пугались. Затем остановился… его земляк, так я решил.
Алексей сунул ему бумажку с адресом. «Через метро». Водитель кивнул, мы поехали. Алексей повернулся с переднего сиденья ко мне и начал рассказывать.
Он, оказывается, давно в Москве. Поступил в МГУ, по блату, конечно. Вот, устроился на Ленту-Ру, родственники помогли. Типа молодой, а тут интернет, перспективно, интересно. А он хочет на телевидение.
Телевидение, это такая штука! Как хочешь, так и повернёшь. Хочешь, чтоб все любили пряники — все будут любить пряники. Хочешь, чтоб все стегали себя кнутом — будут кнутом. Можно, чтоб все строем ходили? — пожалуйста. Можно, чтоб все друг с другом могли спать когда захотят? — легко. Дайте время.
Водитель внезапно подал голос:
— Сейчас опасно на телевидении же работать! Вон что творится!
Алексей машет рукой.
— Э! Это всё специально, точно говорю. Чтобы рейтинги повысить, у населения пар стравить, внимание отвлечь. Это ФСБ убивает, ясное дело, а показывают, будто народ. Когда наш народ чё-то сможет сделать? Пфе! Но народу это не нравится, поэтому решили ему показать, что ты, народ, ты можешь собраться, если тебя довести. Дураки сидят возле телека и радуются — во, общественность поднялась, люди чего-то делают. Где они, эти люди? Только в телевизоре, опять в телевизоре. Говорю же, телевидение — это власть. Это больше, чем любая власть. Хочешь прорваться — иди на телевидение!
На этой фразе Алексей замолкает, победно оглядывает меня и водителя, и мы несколько минут едем в молчании.
И тут водила даёт по тормозам.
— Вылезайте, — хмуро так говорит. — Сами дальше едьте.
— Э, что случилось, брат? — говорит Алексей.
— Я тебе не брат, — отвечает водитель и выразительно тянется куда-то под сиденье. — Вылезайте. Журналисты.
Да что за вечер-то такой.
Вылезаю, потягиваюсь. Где мы находимся — бог его знает.
Трепло Алексей с бранью вылезает из машины, и мы снова торчим на обочине.
— Да мы уже близко от станции, — оглядевшись, говорит Алексей. — Можно пешком. Минут пятнадцать-двадцать.
Пешком так пешком. Я шел, уткнувшись носом в землю, поэтому и не заметил, как сзади начали останавливаться машины. Из них вылезают люди и явно чего-то хотят.

Вижу среди них давешнего таксиста, Алексеева земляка, который ему не брат. Он показывает на нас пальцем; мы ускоряем шаг, почти бежим — и втыкаемся в ещё одну группу людей. Обложили.
Нас догоняют сзади, прижимают спереди. Со стороны — чисто стрела а ля девяностые, и мы посередине.
Первому врезали мне, молча и без разговоров, если не считать матерных междометий. Я дерусь плохо, попытался сунуть одному, другому, третьему даже попал по лицу — он очень удивился, пошёл на меня, обнял двумя руками — и вот я уже лежу на земле, прижатый кем-то очень тяжёлым и не могу даже шевельнуться. Кто-то врезал мне ещё раз, затем положили ничком и накинули на шею петлю.
— Не-не-не! — голос водителя. — Этот не журналист. Другой, чернявый!
Петлю с моей шеи снимают. На спине сидят сразу двое, и ещё один прижимает ноги. Чувствуется, что им неинтересно сидеть со мной, центр событий явно не здесь. Слышу сухой рваный треск и, ободрав нос об асфальт, выворачиваю голову в другую сторону.
Это очень похоже на сон — когда смотришь и ничего не можешь сделать. Мне даже дышать было трудно, поэтому я просто наблюдал, как верещащего Алексея поволокли к столбу, перекинули через перекладину, на которой висел какой-то дорожный знак, толстую веревку, и стали тащить. На раз-два-взяли — очень бестолково, сумбурно. Руки у него были перехвачены за спиной — почему-то мне кажется, что скотчем — точно скотчем, потому что ноги его блестят, обмотанные клейкой лентой.
Через пару минут он перестал дрыгаться и булькать. Кто-то распорядился спустить его пониже, и к нему на грудь прилепили листок А-4. Все стали садиться в машины, трое сидевших на мне слезли с моей спины и ног и тоже уехали.
Подошёл водила. С барсеткой и курткой.
— Это его, — сказал он. — Твоего… попутчика. Нам чужого не надо.
Я молча сидел на асфальте. Водитель постоял немного, посопел, затем выругался и пошёл к машине. Попутчика, значит. Не коллеги. Тоже мне, эра милосердия.
Куртку я решил оставить здесь, повесил её на ограждение, а барсетку надо было куда-то деть, прицепить её к поясу, подумал я, откинул куртку и увидел пистолет.
Совсем про него забыл.
Напрочь.
Ноги у меня ослабели, слезы хлынули из глаз. Что за дерьмовая жизнь.
Поехать домой и нажраться в однова.
До станции метро я дошёл за минут десять, успел обсохнуть и утереться. В метро поймал себя на том, что оглядываю всех, как бродячая собака: ударит — не ударит. Взял себя в руки и доехал до своей станции как нормальный гражданин, только с разбитым и расцарапанным хлебалом, грязной курткой, чужой барсеткой, красными глазами и общим выражением отчаяния на лице. Вечер трудного дня; офисный планктон едет домой.
Обоссанный лифт, две с половиной секунды на этаж. Темная площадка, втыкаюсь в свою дверь, хлопаю по карманам, ищу ключ, уф! — нашёл; не потерял, не выронил.
А дверь-то — открыта.
Примерно три минуты я стою, не шевелясь и почти не дыша. Затем рука будто сама нащупывает пистолет, и я вхожу в квартиру, словно сыщик на задании.
— Эй, — говорю негромко. Отзывается короткое дребезжащее эхо — вещей в этой съемной однушке немного, голые стены с вросшими обоями — отличный резонатор. Подсознание уже сообразило, что в квартире никого нет, и дало порезвиться сознанию: я как Жан-Клод Ван Дамм лихо вкатился в единственную комнату и пребольно треснулся лбом об угол тумбочки.
Включаю свет, и вижу краем глаза что-то на стене. Мощная волна страха приподнимает волосы — но нет, это просто надпись, и даже не кровью.
«Увидимся».
Опять зависаю на несколько минут. Вещи разбросаны, коробки, служащие мне вместо полок и шкафа, выпотрошены, компьютера нет, а на столе — аккуратно вырванные и разложенные листки записной книжки с телефонами, мыслями, адресами, и прочими случайными записями. Я ей не пользуюсь почти, но некоторые важные телефоны там у меня есть… Теперь они есть и у них.
Я сидел на диване, одетый, обутый, прижимая к себе чужую барсетку, и глядел на надпись. Никаких мыслей, чувств, эмоций. А зачем? Надо просто сидеть и ждать, когда за тобой придут. Можно связать себе руки, вымыть шею, чтоб не пачкать веревку, нацепить бэджик или куртку с логотипом телеканала — чтоб всем было сразу понятно, за что я болтаюсь.
«Увидимся».
Я, если честно, не совсем отчетливо помню, что я тогда делал, о чем думал. Могу только предполагать. Так вот, предположительно всё было следующим образом: одна часть меня тупила в надпись и рисовала картины моей бесславной гибели, а вторая что-то задумала и немедля начала претворять задумку в жизнь. В барсетке, помню, был паспорт и журналистское удостоверение на имя какого-то Ахмеда с фотографией Алексея, связка ключей, презервативы, детский крем, дезодорант, несколько сотен рублей, и маленькая визитка без имени, но с адресом. Адрес был хороший, монументальный. Как в анекдотах почти: Москва, Ленину.
Мне стало легко. В голове тихонько что-то звенело, даже пело. Такое ощущение, будто я парил над своим телом. Тело куда-то шло, у него была цель, а я летел следом и сверху, как воздушный шарик, обозревая окрестности, удивляясь миру. Смутно помню ночные огни Москвы, тонущие в серо-черном смоге. Помню хмурого мужика в старом фольксвагене, который довез меня до адреса с визитки — почти.