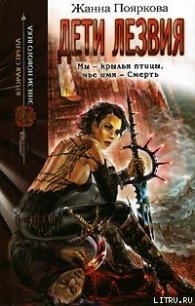Дети Ноя - Жубер Жан (читать книги онлайн полностью .txt) 📗
В этот миг я сильнее, чем когда-либо, почувствовал, как безнадежно мы затеряны в этом огромном мире, — словно потерпевшие кораблекрушение и выброшенные на необитаемый остров вдали от судоходных путей, мы пропадали среди этой белой пустыни. Или еще того хуже (этот образ внезапно пришел мне на ум, повергнув в минутный ужас): снег погреб под собой всю планету, и каким-то чудом, в виде короткой отсрочки, одни только мы остались живыми на этой Земле.
В последующие дни мы начали испытывать легкую нехватку воздуха. Он, конечно, поступал через наше единственное окно, которое мы оставляли открытым по нескольку часов в день, но это влекло за собой другое неудобство — дом выхолаживался. Что же до прогулок на «террасе», к которым понуждал нас отец, то мы быстро замерзали и норовили улизнуть в дом, к огню. А внутри скапливались назойливые запахи сажи, бензина, пищи и, главное, курятника и хлева, где постепенно набиралось все больше навоза.
Ма жаловалась вдобавок на запах табака, так что отцу пришлось теперь курить, забираясь внутрь камина, там он и сидел, скрючившись на скамеечке и прислонясь спиной к стене; или же он покорно удалялся на чердак, где обустроил себе нечто вроде добавочной резиденции возле самого окошка, ведущего в снежный тоннель. Для него это, вероятно, была редкая возможность хоть несколько минут побыть в одиночестве. Он составил в уголке старое кресло тетушки Агаты, этажерку и полочку с кое-какими книгами. Усевшись в кресле и положив ногу на ногу, он выбирал нужный том и читал, попыхивая трубочкой. Я полагаю, что он использовал свое уединение еще и для того, чтобы тайком делать записи в «вахтенном журнале» или пересматривать список продуктов. Когда на улице было не слишком пасмурно, ему хватало дневного света из окошка, но зато не хватало тепла. Па вставал и принимался расхаживать взад-вперед. Сидя в гостиной, мы прислушивались к его шагам у себя над головой.
— Папа нервничает! — замечала Ноэми, глядя на потолок.
— Может, он замерз? — беспокоилась Ма. — И что ему делать там одному на чердаке? Пойди скажи ему, чтобы спускался вниз!
Конечно, отец нервничал, невзирая на свой бодрый вид, и стал нервничать еще сильнее, когда подошли к концу его запасы табака. На эту тему я нашел запись в его дневнике: счет шел в убывающем порядке — три пачки, две, одна, полпачки, десять граммов. Потом — яростно подчеркнутое слово «конец!». Он метался по дому, как хищник в клетке, ворчал, ругался, сосал пустую трубку. Настроение у него было отвратительное, даже Ноэми не удавалось к нему подольститься. Он, обычно такой миролюбивый, ухитрился даже несколько раз поцапаться с Ма, что мне очень не понравилось. Он то кидался к верстаку и начинал ожесточенно работать, то бросал все и убегал к себе на чердак.
Потом он попробовал курить сухие травы, пучками висевшие на чердаке: мяту, шалфей, полынь. Результат: кашель и тошнота. Пришлось от этого отказаться. И вдруг неожиданно он почувствовал себя лучше: «Мне стало легче дышать. Да и голова теперь яснее!» И вновь к нему вернулось миролюбие. Он наконец завершил своего коня. Временами он ставил его на стол и медленно водил вокруг лампой, любуясь игрой теней. Конь то смеялся, то страдальчески оскаливался, в его вздыбленной позе было что-то демоническое. Лицо всадника прикрывала птичья маска, на руке у него сидела выдра. Мы допытывались у отца: «Зачем это?» — но он отказывался объяснять. Он утверждал, что образы эти возникают у него внезапно, что это интуиция, греза, смутные воспоминания и он воплощает их в дереве, даже не пытаясь понять. Как бы то ни было, а эти всадники — порождения снежного плена и тьмы — долго еще мчались на своих конях сквозь мои ночные кошмары. Даже теперь, особенно когда я пишу эти страницы, они внезапно встают перед моим мысленным взором — немые, угрожающие фигуры, призраки былых детских страхов.
7

Первой подошла к концу мука. Несколько килограммов, которые были в доме, исчезли за неделю. К счастью, у входа в хлев стояли два ларя, набитые зерном для кур: примерно сто килограммов овса и шестьдесят — ржи. И если овес пока что казался нам не очень-то съедобным, зато рожь вполне можно было перемолоть в муку, разумеется, при условии, что мы найдем для этого подходящее приспособление.
Такого у нас, конечно, не было, но беглый обыск чердака опять — в который раз! — принес нам спасительное решение; мы обнаружили там старинную кофейную мельницу, вычистили ее как следует и превратили в мукомолку. Достаточно было всыпать в нее две-три горсти зерна и энергично покрутить ручку, чтобы получить грубо смолотую муку, которая ссыпалась в ящичек, устроенный внизу. То был долгий, монотонный труд, требующий стоического терпения.

Не сосчитать, сколько часов провел я, сидя у камина с зажатой между колен мельницей, бесконечно перемалывая это твердокаменное зерно, которое никак не желало превращаться в муку. И если вначале эта работа развлекала меня, то очень скоро она превратилась в настоящую пытку, что я иногда не стеснялся и высказывать.
— Я не могу больше! У меня всю руку ломит!
— Молчи и крути! — отвечал отец. — Сейчас не время лениться.
Но когда он видел, что я действительно устал, он тут же подменял меня.
Чтобы получить килограмм муки, требовался целый час непрерывной работы. Потом муку просеивали через сито, чтобы отделить от нее непромолотые кусочки, которые шли на корм курам. Помол занимал у меня чуть ли не всю первую половину дня, до обеда я еще должен был успеть проведать животных, и почистить хлев. Середина дня посвящена была занятиям под руководством отца, а вечер — мелким хозяйственным заботам. У меня, как, впрочем, и у остальных членов семьи, не оставалось времени скучать. Именно в этих обстоятельствах я ясно понял, насколько труд способен занять все мысли и помешать унынию овладеть тобой. Это была одна из теорий моего отца, раньше я посмеивался над ней, теперь начинал признавать ее справедливость.
А кроме того, какай радость для меня, когда Ма, вымесив из моей муки тесто в миске, служившей ей квашней, ставила его в духовку, откуда вскоре исходил волшебный аромат пекущегося хлеба! Этот коричневато-серый плотный хлеб с приятной кислинкой был как бы моим произведением, плодом моего труда, и я немало гордился им. Завернув в холстину, нам удавалось сохранять его свежим несколько дней, а зачерствев, хлеб делался еще вкуснее. Тогда приходилось жевать его изо всех сил, что, по утверждению мамы, было очень полезно для пищеварения. А когда хлеб каменел совсем, отец рубил его топором, и мы макали кусочки в суп или в теплое молоко. Эта грубая, но питательная еда скоро стала нашим основным блюдом, когда другие продукты постепенно иссякли. Написав эти строки, я явственно ощущаю во рту чуточку пыльный вкус нашего хлеба и в который раз даю себе слово улучить свободный часок и вновь проделать этот опыт. Нужно будет только отыскать мельницу. Ну а движения — движения вспомнятся сами собой.
Я научился у матери месить тесто, делать из него ковригу, следить, как она печется. Она же показала мне, как готовят закваску из кусочка теста, которому сперва дают скиснуть. Очень скоро я стал большим знатоком в хлебопечении и дошел в своем энтузиазме до того, что начал подумывать; а не сделаться ли мне пекарем?
Правда, призвание мое менялось в зависимости от времени дня и занятий: то мне хотелось стать плотником, то поваром, то пастухом. Особенно пастухом, и на это имелись свои причины. Как многие мои сверстники, я отличался богатым воображением и переживал одно увлечение за другим. Все они длились недолго и не укладывались в стереотипы эпохи, где безраздельно царили ЭВМ, роботы и точные науки, но зато они помогли мне выстоять в нашей снежной тюрьме.
И пусть я впоследствии избрал для себя иной путь, я все же навсегда сохранил уважение к рабочим рукам и умею работать своими собственными. И этим я тоже обязан тяжким испытаниям той ужасной зимы и моему отцу.