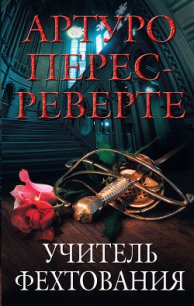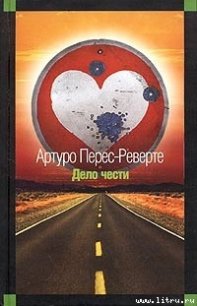Кожа для барабана, или Севильское причастие - Перес-Реверте Артуро (читать книги бесплатно полностью .TXT) 📗
— А какое это имеет отношение к церкви Пресвятой Богородицы, слезами орошенной?
Бонафе поджал губы размышляя.
— В принципе — никакого. Но согласитесь, что это пахнет хорошеньким скандалом. — Его отвратительная улыбка стала еще шире. — Журналистика — такое дело, падре: немножко того, немножко сего… Достаточно хотя бы крупицы правды — и получается материал, который так и просится на обложку. Пусть потом приходится печатать опровержения, дополнительную информацию, зато глядишь — а пару сотен тысяч экземпляров разобрали за неделю, как горячие пирожки.
Куарт презрительно смотрел на него.
— Пару минут назад вы сказали, что ваша религия — это Истина. С большой буквы.
— Я так сказал?.. — Всего презрения Куарта не хватило, чтобы согнать с лица журналиста эту улыбку, непробиваемую, как броня. — Ну, наверняка я ничего не говорил о большой букве, падре.
— Убирайтесь.
Наконец-то Бонафе перестал улыбаться. Он отступил на шаг, подозрительно глядя на острый конец ключа, зажатый в левой руке его собеседника. Куарт вынул из кармана и правую руку с распухшими костяшками пальцев, покрытыми коркой запекшейся крови, и глаза журналиста беспокойно заметались от одной руки священника к другой.
— Убирайтесь отсюда, или я велю вышвырнуть вас. Я даже могу забыть о своем сане и сделать это сам. — Он шагнул к Бонафе; тот отступил еще на два шага. — Пинками.
Журналист слабо запротестовал, не отрывая испуганных глаз от правой руки Куарта:
— Вы не посмеете…
Но он не закончил. В Евангелии описывались подобные прецеденты: изгнание менял из храма и так далее. На эту тему даже имелся весьма выразительный барельеф всего в нескольких метрах отсюда, на дверях мечети, между Святым Петром и Святым Павлом, который, кстати, держал в руке меч. Так что здоровая рука Куарта проволокла журналиста два или три метра, как безвольно болтающуюся тряпичную куклу. Ошеломленный портье, разом проснувшись, наблюдал эту сцену широко открытыми глазами. Растерявшийся, ошалевший от неожиданности Бонафе пытался оправить на себе одежду, когда последний толчок вышвырнул его через открытые двери прямиком на улицу. Его борсетка свалилась с руки и упала на пол. Куарт подобрал ее и, размахнувшись, швырнул к ногам Бонафе.
— Я не желаю вас больше видеть, — сказал он. — Никогда.
В свете уличного фонаря журналист все еще пытался придать себе достойный вид. Руки у него дрожали, волосы растрепались, лицо было бледно от унижения и ярости.
— Мы с вами еще встретимся, — наконец выговорил он трясущимися губами, и голос у него сорвался на почти женский всхлип. — Сукин сын.
Куарту уже приходилось слышать эти слова по отношению к себе, так что он только пожал плечами. После чего повернулся спиной к Бонафе, как бы давая понять, что это дело его больше не касается, и через вестибюль направился к лифту. Портье, все еще не пришедший в себя от изумления, безмолвно взирал на него из-за стойки, с повисшей в воздухе рукой, протянутой к телефону (минуту назад он собрался было вызвать полицию, но его одолели сомнения). Не видел бы собственными глазами — ни за что не поверил бы, говорил его взгляд, в котором читались любопытство и уважение. Ничего себе поп.
Сбитые костяшки пальцев правой руки Куарта распухли и болели, но все суставы работали. Так что, вслух проклиная собственную, глупость, он снял пиджак и, держа руку над раковиной в ванной, промыл раны «Мультидермолом», а потом положил на нее носовой платок, в который увязал весь лед, какой нашел в мини-баре своего номера, и долго стоял так у окна, глядя на площадь Вирхен-де-лос-Рейес и на освещенную прожекторами громаду собора за Архиепископским дворцом. Из головы у него не выходил Онорато Бонафе.
Когда лед окончательно растаял, рука уже выглядела гораздо лучше и не так болела. Тогда Куарт, прежде чем повесить свой пиджак в шкаф, вынул из карманов то, что там находилось, и разложил все на комоде: бумажник, авторучку, визитные карточки, бумажные носовые платки, несколько монет. Открытка капитана Ксалока лежала пожелтевшей фотографией кверху: церковь, продавец воды со своим осликом, наполовину расплывшийся, как призрак, в окружавшем снимок белесом ореоле. И внезапно на него нахлынули образ, голос, аромат Макарены Брунер. Словно рухнула некая плотина, державшая все это взаперти. Церковь, его миссия в Севилье, Онорато Бонафе вдруг растаяли, как силуэт продавца воды, и осталась только она: ее полуулыбка там, на молу у Гвадалквивира, медовые переливы в темных глазах, ее теплый запах, нежная кожа бедра, на котором табачница Кармен, подняв и заткнув за пояс подол юбки, скатывала влажные листья табака… Жаркий вечер, смуглый силуэт обнаженной Макарены на белых простынях, горизонтальные полосы солнечного света, пробивающиеся сквозь щели жалюзи, мельчайшие капельки пота у корней черных волос, на темном лобке, на ресницах.
Жара, несмотря на поздний час, не спадала. Был почти час ночи, когда Куарт открыл кран душа и стал медленно раздеваться. Делая это, он глянул в зеркало шкафа и увидел в нем незнакомца. Высокого человека с угрюмым взглядом, который снял с себя ботинки, носки и рубашку, а потом, оставшись в одних брюках, расстегнул ремень и молнию. Брюки соскользнули на пол. За ними последовали белые хлопчатобумажные трусы, обнажая член, возбужденный воспоминанием о Макарене. Секунду-другую Куарт разглядывал незнакомца, внимательно смотревшего на него из Зазеркалья. Высокий, с плоским животом, узкими бедрами, хорошо развитыми мышцами груди и рельефно выступающими мускулами плеч и рук. Он был несомненно привлекателен, этот мужчина, молчаливый, как солдат без возраста и времени, лишенный своей кольчуги и своего оружия. И он спросил себя, на кой черт ему эта привлекательность.
Шум воды и ощущение собственного тела навеяли на него воспоминание о другой женщине. Это произошло в Сараеве, в августе 1992 года, во время короткой, но опасной поездки в боснийскую столицу, которую Куарту пришлось совершить, чтобы договориться о вывозе Монсеньора Франьо Павелича, хорватского архиепископа, весьма уважаемого Папой Войтылой; его жизнь подвергалась опасности как со стороны боснийских мусульман, так и со стороны сербов. Тогда понадобились сто тысяч немецких марок, которые Куарт доставил на вертолете ООН — в чемоданчике, прикованном наручниками к его запястью, под охраной французских «голубых беретов», — чтобы и те, и другие согласились на эвакуацию прелата в Загреб и не подстрелили его где-нибудь на улице, как было сделано с его викарием, Монсеньором Есичем, погибшим от снайперской пули. Тогда в Сараеве было страшно: бомбы, взрывающиеся в очередях за водой и хлебом, ежедневно по двадцать-тридцать убитых, сотни раненых, лежавших уже чуть ли не друг на друге, без света, без медикаментов, в коридорах косовского госпиталя; на кладбищах места больше не было, и людей хоронили на стадионах. Ясмина не была проституткой. Некоторые девушки, чтобы выжить, предлагали себя в качестве переводчиц журналистам и дипломатам, жившим в отеле «Холидэй Инн», и зачастую оказывали им не только словесные услуги. Цена Ясмины была столь же относительна, сколь и все в этом городе: банка консервов, пачка сигарет. Она подошла к Куарту, привлеченная его одеянием священнослужителя, и поведала историю, весьма банальную для осажденного города: отец-инвалид, табак давно кончился, война, голод. Куарт обещал ей раздобыть сигарет и кое-что из еды, и она вернулась ночью, одетая во все черное, чтобы не заметили снайперы. За горсть марок Куарт достал для нее полпачки «Мальборо» и пакет солдатских пайков. В ту ночь в гостинице дали горячую воду, и она попросила разрешения принять душ — в первый раз за целый месяц. Она разделась при свете свечи и вошла под струи воды, а он смотрел на нее как зачарованный, прижавшись спиной к косяку двери. У нее были белокурые волосы, светлая кожа, большие крепкие груди. Стоя под душем, под струящейся по ее телу водой, она оглянулась на Куарта с благодарной, приглашающей улыбкой. Но он не сдвинулся с места — только улыбнулся в ответ. На этот раз дело было не в правилах. Просто есть вещи, которые нельзя делать за полпачки сигарет и порцию еды. Потом, когда она вытерлась и оделась, они спустились в бар отеля и при свете другой свечи выпили полбутылки коньяка под вой сербских бомб, падавших снаружи. А потом, прижав к груди свои полпачки сигарет и пакет с едой, Ясмина быстро поцеловала священника в губы и убежала, скользя, как тень, среди теней.