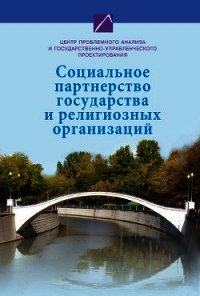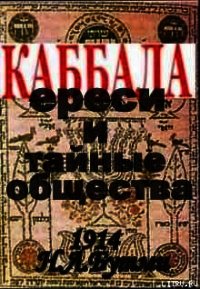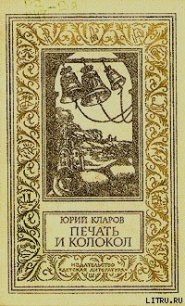Черный треугольник. Дилогия - Кларов Юрий Михайлович (прочитать книгу TXT) 📗
Насколько я мог оценить, стреляли с толком, профессионально, в полтуловища, хотя и вслепую. Военный инструктор, обучавший нас, боевиков, в тысяча девятьсот пятом, называл такую прикидку нежно и выразительно – «в пупочек». Целиться следовало в центр живота или чуть повыше. Подобная прикидка сулила успех и неумелому. Она почти всегда гарантировала попадание даже из непристрелянного оружия, такого ненадежного, как «бульдог» или «смит-вессон». «В голову трудно. В голову и опытный стрелок, случись что, промажет. А тулово – цель, мишень по-военному, – объяснял инструктор. – Высоко взял, дернул – грудь, голова, шея; занизил – брюхо, тоже не жилец. На крайний случай – ноги. Не весть что, а урон, не помаршируешь… Так что из леворверта завсегда в пупочек берите. Глядишь – и сложится пополам».
Те двое за дверью науку солдатскую, чувствовалось, знали. Неплохо знали. Били наугад, но на уровне «пупочка». Не учли они лишь одного: стояли-то мы не перед дверью, а по бокам ее, за выступами стен лестничной площадки. Им следовало стрелять наискось, вплотную приблизившись к двери, сведя на нет мертвое пространство. Но я в советчики не набивался… Пока же нам угрожал лишь рикошет. Но быть мишенью все равно неприятно, особенно если нет твердой уверенности в заступничестве всевышнего…
В моей памяти всплыло и вновь исчезло белое лицо Димитрия, грустное и задумчивое; сгорбившаяся спина, сутулые плечи, серебряные кольца волос из-под черного клобука… Димитрий многое знал. Он не знал лишь того, что человеческое «тулово – цель, мишень по-военному» и что при стрельбе нужно прикидывать, где у людей, созданных по образу и подобию божьему, находился «пупочек». Он считал, что в его обязанности на грешной земле это не входит. Потому-то его не было ни здесь, ни там, за дверью. А может быть, каждому человеку хоть раз в жизни, а следует постоять на такой вот лестничной площадке?
Сухов, побледневший, строгий, вопросительно посмотрел на меня. Ему нужно было во что бы то ни стало действовать. Все равно как. Главное – действовать.
Еще выстрел – и еще фонтанчик штукатурки, и еще маленькое круглое отверстие. Это уже они так, со злости…
Огненные глаза в дверных панелях исчезли: в прихожей погасили свет. Уж не думают ли прорываться? Неразумно. Впрочем, при некоторых обстоятельствах от людей естественней ждать глупостей.
– Послушайте, Мессмер! – громко сказал я. – Вы меня слышите?
– Слышу.
– Советую вам открыть дверь и сдать оружие.
– А что вы предлагаете взамен?
Вот именно, что?
– Взамен я вам предлагаю личную неприкосновенность. Вам и вашему другу.
– По пути в трибунал?
– Да. До приговора революционного трибунала.
Очередной выстрел был плох: барон завысил прицел, пуля впилась в потолок.
– Погодите стрелять. Я еще не закончил. Хочу предупредить, что на этот раз все меры приняты: улизнуть не удастся. А вы подвергнете опасности не только себя, но и других обитателей квартиры, в том числе своего отца.
Ответом была ругань. Несмотря на свое иноземное происхождение, барон великолепно пользовался красотами великорусского фольклора, виртуозно накладывая одно кружево на другое. Волжанин оценил:
– Как боцман чешет, в брашпиль его мать!
– Умственный господин, – поддержал матрос Артюхин, шапка которого, будто снегом, была припорошена известкой.
Сухов передернул затвор карабина, но я отрицательно покачал головой. Те двое нужны были мне живыми. Ну не двое, – хотя бы один…
Положение было дурацким. Подставлять под пули своих людей? Глупо и, как говорит Рычалов, нецелесообразно. Ждать, пока у них кончатся патроны? Долго, унизительно и тоже… нецелесообразно.
Я взял у Сухова карабин и прикладом разбил висящую над головой в матовом колпачке лампочку. Мелким дождем посыпались на пол стеклянные осколки. Затем я размахнулся и ударил изо всех сил кованым прикладом по двери, стараясь в наступившей кромешной тьме попасть чуть ниже ручки, в то место, где находился дверной замок. По металлическому скрежету я понял, что угодил, кажется, все-таки по бронзовой ручке.
Снова выстрелы. Где-то мимо левого уха фьюкнула пуля.
– Дай-кось, Леонид Борисович… – пробасил Артюхин.
У меня вырвали карабин. Удар! Еще! Еще…
Когда дверь наконец затрещала, хлопком прозвучал одинокий выстрел…
Под напором сгрудившихся человеческих тел сорванная с петель дверь опрокинулась куда-то внутрь, в темень, в пустоту. Ударившись о пол, ухнула. Крякнули планки, захрустели, заскрипели жалобно под ногами. Гулко загрохотали по паркету сапоги. Тяжелое дыхание, топот, чей-то крик.
Выстрелов, кажется, больше не было. А может, и были? Черт его знает!… Я обо что-то споткнулся и чуть не упал. В голове мелькнула мысль: сбежали! Но куда? Некуда им бежать – весь дом окружен красногвардейцами.
Зло и громко, подбадривая себя звуками собственного голоса, ругался Волжанин.
– Свет! – сказал я. – Включите свет.
– Да разве найдешь, где он тут включается, – совсем рядом раздался неестественно спокойный голос Сухова. – Не помните, на какой стороне, Леонид Борисович?
Вопрос прозвучал, по меньшей мере, забавно. Если бы смог, я бы улыбнулся.
Кто– то зажег спичку.
Я чувствовал, как между моими лопатками стекает струйка пота. В прихожей было пыльно, жарко и душно. Машинально, непослушными пальцами я расстегнул пальто, вытер о его полы вспотевшие ладони. Ножом резанул глаза яркий электрический свет.
– Ах, мать честная! – удивленно сказал Волжанин.
На полу, рядом с упавшей дверью, я увидел сидящего человека и невольно подался в сторону, чтобы не наступить на него. Человек сидел, поджав под себя колени и уткнув в них лицо, словно стыдясь чего-то.
Надсадно и упорно звенело что-то наверху, под высоким белоснежным потолком. Муха, что ли? Или показалось? Нет, будто не показалось…
– Муха, – сказал Артюхин. – Она, стерва. Муха зимой к покойнику. Это завсегда так… Точная примета, Леонид Борисович. Увидел где муху – жди покойника… Чувствительная тварь. Ишь как крылышками вызванивает!
В дверной проем вошли трое из боевой дружины. Огляделись, старший подошел ко мне.
– Второго нет, а их тут двое было. Обыщите комнаты!
– Будет сполнено, товарищ Косачевский. Куда убегет? Тут он. Пошли, ребята! Чего уставились? Убитых, что ли, не видели?
В прихожей остались трое: я, Волжанин и покойник…
Матрос ощерил золотые зубы:
– Мессмер-то сам себя порешил…
– А Мессмер ли это?
– Он самый. Барон…
Волжанин за волосы приподнял голову убитого так, чтобы я мог рассмотреть лицо. Фотографий барона у нас хранилась целая пачка. Да, это, вне всякого сомнения, был Мессмер. Барон выстрелил себе в рот. На щеке у губ – потек крови. Один глаз широко раскрыт, другой прищурен, подмигивает: что, взял, Косачевский? Я ведь вроде колобка… И тогда от тебя ушел, и теперь… Не от твоей хамской пули умер – от собственной. Похвалиться тебе и то нечем. Ушел я от тебя, Косачевский, вторично ушел!
Матрос опустил голову покойника, и тот, будто устав сидеть, мягко завалился на бок.
– Обыщите.
Перевернув труп на спину, Волжанин начал отстегивать клапаны карманов. Вытер о френч запачканные в крови пальцы, протянул мне письмо на плотной голубоватой бумаге с серебряным вензелем в углу.
«Милостивый государь Василий Григорьевич! – прочел я. – Весьма сожалею, что вынужден взять на себя эту прискорбную обязанность. Нет необходимости напоминать, для чего предназначалось вверенное Вам имущество «Алмазного фонда». Однако, выполняя настоятельную просьбу членов совета «Фонда», кои, в силу известных Вам обстоятельств, пожертвовали своими фамильными ценностями во имя священных идеалов русского самодержавия, позволю себе, милостивый государь, все же напомнить, что вверенное Вашему попечению имущество предназначалось для двух целей: освобождения из заточения членов царской фамилии и финансирования освободительного движения на юге России… Ваши ссылки на ограбление патриаршей ризницы признаны безосновательными. Члены совета не только не могут оправдать Вашу, как они изволили высказаться, безответственность, но и смягчить указанными обстоятельствами Вашу пагубную для нашего отечества вину…»