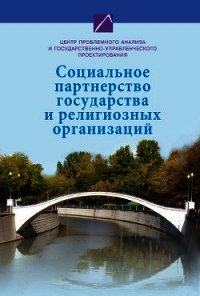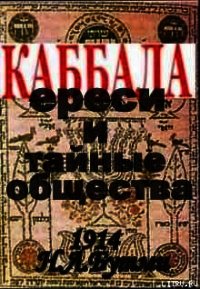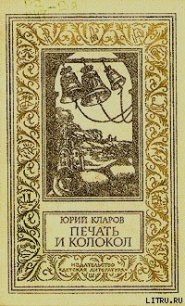Черный треугольник. Дилогия - Кларов Юрий Михайлович (прочитать книгу TXT) 📗
Хотя дело с расследованием ограбления было еще далеко не ясно (по моей формулировке), а по формулировке Рычалова – совсем не ясно, я не очень сопротивлялся предполагаемому осмотру. Я понимал, что страсти вокруг расхищения святынь нужно приглушить, а с анонимными листками, в которых Брестский мир заключался с помощью «священных сосудов», и вовсе покончить.
Смущало лишь одно. Учитывая роль ризницы в подготовляемом наступлении, пойдет ли Соборный совет на частичное саморазоружение? Ведь «расхищение святынь русского народа» – оружие. И оружие мощное. Недаром же один из членов собора, которому было поручено выяснить, в каком положении находится расследование, сделал такой доклад на очередном заседании, что каждому непредвзятому слушателю ясно: сокровища безвозвратно утеряны…
– Мы им пошлем официальное приглашение, – сказал Рычалов. – И попросим делегировать именно архиепископа Антония и протоиерея Восторгова. А ты дополнительно телефонируй секретарю патриарха, его юрисконсульту и ризничему. Правда, свой долг, как я уже говорил, вы покуда выполнили лишь на одну четверть… Но четверть эта оценивается все-таки в семь миллионов. Ко дню переезда правительства в городе нужно навести порядок…
III
Лучшего гида для депутации Соборного совета, чем ювелир патриаршей ризницы Федор Карлович Кербель, разумеется, не было. Он бы воспел потиры Валентиана III, рассказав архиепископу Антонию и протоиерею Восторгову подходящую к случаю легенду, и золотой с эмалью енколпий Бориса Годунова, и серебряную свечу времен Ивана Грозного, и шестикрылых золотых херувимов на украшенной жемчугом рипиде Филарета…
Но Кербеля, по некоторым соображениям, пришлось заменить Карташовым.
Профессор истории изящных искусств, сумрачный и задумчивый, сидел в углу кабинета и курил, сосредоточенно наблюдая, как струя серого дыма, извиваясь и клубясь, рассасывалась где-то под потолком. По его брюзгливому лицу было видно, что ему здесь все не нравится: давно не ремонтированный кабинет со шпалерами, покрытыми пятнами, беспрерывно входящий и выходящий Волжанин, с его косой челкой, тельняшкой и золотыми зубами, и, само собой разумеется, я.
– Может быть, еще раз осмотрите ценности? – предложил я.
– Я уже смотрел.
За те дни, что я его не видел, Карташов сильно сдал. Серыми и тяжелыми слоновьими складками обвисла кожа с недавно еще круглых щек, одряб тугой живот, поскучнели глаза. Даже золотая цепочка на жилете и та не блестела… Похоже, на нем стал сказываться продовольственный кризис, который в последние дни приобрел в Москве особую остроту.
– На хлебный юг не думаете податься?
– Уже думал и уже раздумал.
– Что так?
– Опасаюсь, батенька, – почти весело сказал он. – Я же круглый… Покачусь на юг, а там, глядишь, не удержусь и окажусь где-нибудь в Константинополе или Неаполе, а то и в Париж нелегкая занесет…
– И что же? – поддразнил я. – Ни талонов на продовольствие, ни революции, ни холода. Тепло, солнце. И водопровод небось работает.
– Да нет уж, увольте. Это для вас интернационал, а для меня – одна Россия. Кондовая, лапотная да сермяжная…
– Россия велика.
– Для кого как. В Москве мне привычней. Право, привычней.
Передо мной сидел прежний жизнерадостный Карташов.
– Анекдот вспомнил. Мне один примерный сельский хозяин, кулак по-нынешнему, душу раскрывал. Когда я часы на сало обменивал… Свиньи, говорит, и те предпочитают, чтобы их не на бойне, а в собственном свинарнике закалывали. Вот как!
– Рискованное сравнение…
– Со свинками?
– Вот именно, – подтвердил я и посмотрел на часы – приближалось время визита.
Карташов засмеялся своим булькающим смехом:
– Ханжеством изволите заниматься. После того как Чарлз Дарвин доказал, что хомо сапиенс происходит не от бога, а от обезьяны, – извините… Не все ли равно – свинья, обезьяна или какаду? Надеюсь, вас не шокирует, что Сократ, Ньютон, блистательный Наполеон и глубокомысленный Гегель – родственники гориллы или шимпанзе, что их пращуры держались за ветки хвостами и искали у себя блох! А свинья – тихое и добродушное животное. Особенно, когда сыта.
Карташову, как всегда, везло. Он относился к тем счастливцам, которые так и не создали своей философской системы, потому что те или иные обстоятельства всегда мешали им довести до логического конца мимоходом высказанные мысли. Вот и сейчас он вынужден был прервать себя на полуслове. В дверях кабинета во всем своем великолепии стоял иерарх в клобуке.
– Архиепископ Антоний – товарищ председателя Совета милиции Косачевский, – сказал Карташов, представляя нас друг другу.
– Весьма приятно, – густым баритоном сказал Храповицкий, и его белоснежная борода широким веером легла на грудь. В клобуке с бриллиантовым крестом и осыпанной драгоценными камнями овальной панагией он был иконописен, красив и величествен.
Так вот он какой Антоний Храповицкий, мечтавший стать банщиком при всероссийской кровавой бане!
Теперь я понимал честолюбивое стремление архиепископа возглавить русскую православную церковь. С такой импозантной внешностью, конечно, обидно было уступать патриарший престол невзрачному Тихону. Но что поделаешь? Судьба.
В сравнении с Антонием остальные члены депутации Поместного собора изрядно проигрывали. Нарочито мужиковатый, неряшливый Восторгов в сапогах-бутылках; полнотелый и коротконогий присяжный поверенный Кротов, бывший юрисконсульт святейшего Синода; чувствительный, страдающий подагрой граф Олсуфьев, то и дело подносящий платочек к глазам (графа умилял вид вновь обретенных священных сосудов), – куда им было тягаться с несравненным Антонием!
Разве вот только архимандрит Димитрий… Но тот, замкнутый и молчаливый, держался в стороне. Антоний Храповицкий, Восторгов и Олсуфьев были ему неприятны. И, несмотря на искреннее желание побороть свою недостойную христианина греховную неприязнь, он не в состоянии был этого сделать. И это угнетало его еще больше.
«Тяжело жить на свете таким, как Димитрий, – подумал я. – Да и где им жить? Разве что в захолустном монастыре… Но много ли останется подобных обителей через год-другой? Да и какие стены уберегут от наступающей со всех сторон жизни? Время пустынников прошло. Их больше не искушают, но к ним и не прислушиваются».
Я уже знал, что с Димитрия, по ему личному ходатайству, вскоре будет снята забота о патриаршей ризнице, и он собирается замаливать людские грехи в Валаамской пустыни или на Соловках. Ну что ж, попутного ветра!
Между тем противоборство пессимизма, оптимизма, прагматизма, рационализма и еще чего-то закончилось в душе Карташова очевидной победой чувства долга перед советской милицией. Воспарив над концепцией Дарвина и собственными философскими изысканиями, он поражал делегатов Соборного совета знанием предмета и неизвестными им историческими фактами.
Восторгов довольно сопел и приоткрывал рот, будто готовясь выпить долгожданную стопку померанцевой под свежесоленые ярославские рыжики («Ах, мать честная, и до чего большевики Россию довели!»), а граф Олсуфьев, которому Карташов успел мимоходом напомнить о его славных предках – обергофмейстере при Петре Великом Василии Дмитриевиче Олсуфьеве и статс-секретаре Екатерины II Адаме Васильевиче, – был растроган и умилен. Даже у Антония и то разгладились морщины у глаз.
Поэтому, когда я по знаку Волжанина покинул кабинет, чтобы переговорить из соседней комнаты по телефону с позвонившим мне Бориным, никто, кроме, возможно, Димитрия, не обратил на это внимания.
Борин доложил мне, что закончил опрос Кербеля.
– Успешно?
– Да, – вопреки своим правилам, четко и уверенно подтвердил он и продиктовал несколько фамилий, среди которых была и фамилия барона Василия Мессмера.
– Выходит, что барон сейчас должен быть в Москве?
– Вполне возможно, – сказал Борин. – Если, натурально, еще не уехал… – И спросил: – Мне приезжать?
– Нет. Уж не сочтите за труд, поскучайте маленько в обществе Кербелей, покуда мы здесь все не выясним.