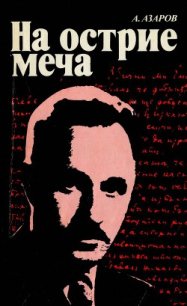Чужие среди нас. Выпуск 4 - Азаров Алексей Сергеевич (читать книги без сокращений .txt) 📗
5
Москва тех лет была, разумеется, поменьше нынешней. Не только Песчаных улиц, к примеру, но и стадиона «Динамо» не существовало даже в проекте, и в Петровский парк ходили гулять, как на дальнюю окраину. Смоленский бульвар тогда был бульваром не только по названию — за низенькой чугунной оградой росли могучие деревья, по дорожкам бегали дети, крутилась карусель с разноцветными конями из папье-маше. Ещё сновали по Триумфальной — нынешней площади Маяковского — трамваи; в Проточном переулке по боковым флигелям и деревянным развалюхам пряталась от милиции воровская публика; Торгсин менял у населения золото и драгоценности на боны, по которым можно было получить остродефицитные бостон и масло; словом, Москва ещё не была нашей сегодняшней Москвой, однако уже тогда она была городом-гигантом и жило в ней народу поболее миллиона.
Мудрено ли, что откликов на заметку в «Вечерке» получил я немало. Больше, чем хотелось бы. Ибо как ни вздорен был порой сигнал, проверять его приходилось тщательно.
Двое суток возились мы с письмом некоей Зонтиковой, сообщившей, что муж её, Леонид Васильевич, 17 февраля должен был отбыть в командировку на периферию, утром того дня ушел из дому, оставив на столе все документы и билет до Самары, и — будто в воду канул.
Пригласил я Зонтикову в прокуратуру, предъявил ей в числе других фотографию трупа (точнее, того, что было в мешке), влил в нее бог знает сколько валерианки и услышал долгожданные слова:
— Он!
— Точно ли? — говорю.
— Он, — и рыдает.
Ну, всё в ажуре, думаю. Опознание произведено по правилам; фотографий предъявлено пять; все одномасштабные; можно смело докладывать прокурору.
Составил я протокол, накапал Зонтиковой успокоительного и мысленно поздравил себя с удачей.
Комаров тоже меня поздравил, но как-то странно.
— С почином вас, — говорит. — Теперь и до сотни недалеко.
— Какой сотни? — спрашиваю.
— Убитых.
— Вы — что? — говорю. — Каких еще убитых?
Засмеялся он и промолчал.
Поручил я ему отработать связи Зонтикова, знакомства его, привычки и прочие биографические частности, а сам взялся за заявление гражданки Васильевой, утверждавшей, что в конце декабря видела она, как двое мужчин и одна женщина везли на детских саночках мешок с чем-то на вид тяжелым — как раз в сторону пруда.
Допросил я Васильеву и с первых же её слов поставил всю историю под сомнение. Уж больно концы с концами не сошлись, хотя и клялась заявительница, что мешок был весь в крови.
— Мешок, — говорю, — какого цвета был?
— Светлый, — говорит.
— Может быть, желтый?
— Вот-вот, в самую точку вы сказали, желтый…
— Не путаете? — говорю. — Сдается мне, что он по цвету ближе к серому.
— Дайте-ка, — говорит, — подумать. Ну конечно, он и был желтый такой, знаете, но с серостью в цвете. Серый он, значит, был.
Поскольку я знал, что мешок был не серый и не желтый, а коричневый, то слушать Васильеву до конца заставили меня лишь врожденное добродушие и профессиональная неопытность.
Так и пролетели даром полдня.
Выпроводил я наконец Васильеву и собрался было и сам уходить, ибо ещё не обедал, но не успел. Комаров мне помешал. Явился без предупреждения и не один, а с гражданином в роговых очках заграничного происхождения.
— Мы на секундочку, — говорит. — Привел я к вам, Сергей Саныч, для знакомства покойника.
— Устал я, — говорю, — не до шуток мне. Вы по делу, Андрей Иванович?
— По делу, по делу. Это вот — умерший семнадцатого февраля Леонид Васильевич Зонтиков, чей труп оплакивает его супруга. Очень чувствительная женщина. Переживает. Вы бы, Леонид Васильевич, хоть бы упредили её, когда умирали.
Побагровел гражданин.
— Безобразие! — говорит. — Насколько я понял, вы — следователь? Я попрошу оградить меня от пошлых намеков вашего сотрудника.
— Успокойтесь, — говорю. — Во-первых, товарищ Комаров не мой сотрудник, а субинспектор уголовного розыска. А во-вторых, кто вы такой?
— Инженер Зонтиков Леонид Васильевич. Между прочим, состою в ячейке как сочувствующий партии. Ещё что вас интересует?
— Только одно: где вы были все эти дни?
Тут Комаров вмешался.
— Позвольте, — говорит, — я объясню.
— Ну?
— Они жили у своей любовницы, гражданки по имени Ариадна Ударная, она же по паспорту Мотря Хвощ.
— По паспорту?
— Ну да. Ариадной Ударной она только последний год прозываться стала. А так была Хвощ Мотрей, девятьсот первого года рождения, из середнячек, проживает по Дурновскому, четыре, работает…
Теперь Зонтиков побелел.
— Слушайте, — говорит, — не ломайте комедию. Я не желаю, чтобы вы вмешивались в мою интимную жизнь! Кто вам дал право смеяться над моей женой?
— Это какой же? — говорю.
— Ариадной Леонтьевной!.. Вы посмели назвать её любовницей, вы своими грязными пальцами измарали всё — любовь, верность, душевную чистоту женщины. Я подам на вас жалобу.
— Ваше право, — говорю. — Но что-то я не улавливаю: Ариадна Ударная — ваша жена, а гражданка Зонтикова кто?
— Бывшая гражданка Зонтикова. Я с ней развелся.
— Когда?
— Позвольте… семнадцатого… нет, восемнадцатого февраля. За день до ухода. Официально. Через загс. Подал заявление, и меня развели. А если она этого не знает, то тут, простите, не я виноват, а скорее вы. Не вы лично, но вы как юрист. Вы же, юристы, сами составили закон, по которому брак прекращается в случае наличия заявления одного из супругов о невозможности продолжать семейную жизнь. Покажите мне — где в законе сказано, что я должен ставить свою бывшую жену в известность о намерениях или свершившемся факте? Нет такого пункта!
Увы, он был прав, этот инженер из «сочувствующих». По тогдашнему закону загс при наличии заявления обязан был расторгнуть брак — и точка. Впрочем, личные взаимоотношения инженера Зонтикова, Ариадны Ударной и бывшей Зонтиковой интереса для прокуратуры не представляли. Поэтому я, не тратя времени, выпроводил молодожена, искренне надеясь при этом, что и в ячейке, где он числится, поступят с ним аналогичным образом.
6
В кипе сообщений, доставленных почтой на моё имя, было одно, которым я, по существу, не занимался, поручив его проверку Комарову. Оно пришло в общем потоке и после сортировки попало в серую папку, выклянченную мною у секретарши специально для «сомнительных» писем. От прочих моих папок со стандартной надписью «Дело №…», не имевших створок и тесемок, серая выгодно отличалась их наличием и неправдоподобной своей величиной. Она была чуть не вдвое длиннее, шире и толще обычной, и секретарша ею крайне дорожила. Кроме того, вместо стандартного «Дело…» на верхней корке красовалось гордое: «Министерство двора. Личная Его Величества канцелярия» — по упраздненной орфографии, с ятем и прочими старорежимными аксессуарами. Каким порывом революционной бури забросило эту папку из дооктябрьского Зимнего дворца в наше учреждение, осуществлявшее диктатуру пролетариата, было загадкой. Секретарша хранила в ней сводки и диаграммы состояния преступности в районе.
Увидев меня впервые на докладе с этой папкой, прокурор хихикнул, осведомился, не состоял ли я до февраля членом «Союза Михаила-архангела», и заодно посоветовал впредь все бумаги, хранящиеся в папке, открывать словами «Его высокоблагородию господину прокурору», дабы не нарушать единства стиля.
— Смейтесь, — говорю. — Эту похабщину на обложке я, конечно, заклею; а вообще папочка мне нравится — вместительная и с тесемками.
— Ну раз с тесемками!
Однако он сразу перестал шутить, едва я вывалил на стол груду писем. Крякнул. И поскучнел.
— Изрядно, — говорит.
— Чего уж изряднее, — говорю.
— Все прочли?
— По нескольку раз.
Поделился я с прокурором всем, что сам знал, и жду — что посоветует. Добрую половину писем он сразу же в сторону отложил; на какой-то части разрисовал поля и текст синими карандашными черточками и птичками, а три — в том числе письмо Зонтикова и Васильевой — украсил автографом: «В архив».