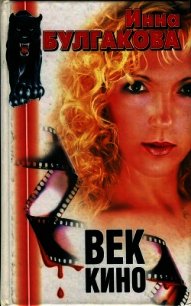Последняя свобода - Булгакова Инна (читать книги онлайн бесплатно серию книг .TXT) 📗
— Да не было ничего! Сплетник этот старый…
— У Милашкина есть неизданные вещи, — не вовремя вспомнил я. — Он интересуется…
— Графоманов не печатаем.
— Почему два года назад, как ты говоришь, твои похождения кончились?
— Другим делом занялся. Другой азарт захватил.
— Азарт требует денег.
— Продал душу дьяволу, — Гриша усмехнулся.
— Почем заплатили?
— Я все вернул.
— Кому?
— Дьяволу.
После последних реплик что-то стронулось между нами, сдвинулось, изменился настрой.
— Ты бывал у Марго в спальне?
— Нет!
— Там было душно, когда мы с сыном вошли, — заговорил я медленно, силясь понять, что изменилось. — Душно и асимметрично.
— Что-что?
— Картина чуть сдвинута. Ты ее знаешь?
— Кого?
Гришу я все-таки знал, и знал, что он на пределе.
— Великий отрок и черный монах под деревом, с драгоценным ларцом.
— А, Нестеров.
— А между ними на траве бледно-красное овальное пятно.
Он ни о чем не спросил, словно мы перешли в иной мир (не в задушевно-студенческий, о нет!), в иной, где все ясно без расспросов.
— Было душно, и пахло «Каберне».
— Женщины пили на дне рождения, — продолжил он, как в гипнозе.
— Этот запах заглушил кровь. Я не знаю, как она пахнет.
— И я не знаю.
— Знаешь. И еще ковер. Ковер, помнишь? Светло-красный, с бордовыми цветами. Как на гробе Прахова — крупные георгины. Пятна почти не видны…
— Не видны, — повторил он зачарованно.
— …То ли вина, то ли крови. Для криминальной экспертизы нужен труп. Но если его сожгли, то уже не разгадать загадку. А около меня, где-то совсем рядом, убийца — дразнит, издевается, хочет свести с ума.
— Кто это? — закричал Гриша, разрушив зачарованность, и я ответил сухо, «по протоколу»:
— Тот, кто украл рукопись, сжег концовку и стер кровь с картины.
Дверь распахнулась, на пороге возникла Аллочка в длинном, до полу, мрачном халате вроде моей похищенной хламиды. Несвойственным ей аффектированно-театральным жестом она прижимала ладонь ко лбу.
— Моя жена вновь дала о себе знать, — сообщил я громко и бесстрастно. — Она подбросила в спальню сережку. Голубенькую, чешского стекла.
— Голубенькую? — переспросила Алла и бессмысленно улыбнулась. — Серьги и ожерелье, помню. Ужасно шли к белому платью из шифона. Что-то невинное, девичье, правда, Гриша?
— Белое платье еще не всплыло, — вставил я. — Оно в пятнах.
— Заткнитесь вы оба! — не выдержал муж. — Аленька, спать, ты не в себе! — Вскочил, схватил ее за руки.
— Не хочу, отстань!
Она вырвала руки и тяжело прислонилась, привалилась к книжному шкафу у двери: застекленная верхняя половина звенела и подрагивала. Алла говорила несколько бессвязно:
— Она была одета в шифоновое платье, с широким голубым поясом, завязанным бантом… и чешский гарнитур… голубенький, прозрачные стекляшки…
— Когда? — прервал я жуткий лепет.
— В беседке. Мы говорили про шиповник…
— Господи, когда?
— Тогда! Примется или нет. Принялся. А ты читал роман про черного монаха, разве не помнишь? — Она засмеялась, хитренько поглядывая. — С этого романа все и началось, разве не помнишь? Коричневая большая тетрадь, без трех страничек. Я помню. Я пила «Каберне».
Теперь я понял очевидное: матушка вдрызг пьяна — и перевел дух. Гриша тайно страдал. Ну и черт с ним! Мне нужна правда про эту парочку. Я поднялся, уступая кресло.
— Садись, дорогая…
— Отстань! Не хочу.
— Аленька!..
— Отстань! — взвизгнула она с такой злобой к мужу, что он даже вздрогнул.
— Леон, она больна. Ты бы шел…
— Не больна! Не делай из меня сумасшедшую! Он хочет, чтобы я спятила, давно хочет…
— Как «давно»? — Я вошел в роль «сыщика».
— Не скажу, ишь какой хитренький!
— Аленька, голубчик, пойдем поспишь…
— Не пойду! И ты больше не пойдешь.
— Куда? — заинтересовался я.
— На свое озеро. Сегодня все удочки переломаю.
— Да разве Гриша рыболов?
— Это проклятое озеро его зачаровало.
— Люблю воду, ничего страшного. Я — «рыба» по рождению, мартовский…
(«Кот!» — добавил я про себя.)
— …на утренней зорьке посидеть, на вечерней поплавать, — продолжал несчастный муж лепетать в стиле Аллочки. — Безо всех, ото всех, наедине с Богом…
«С дьяволом!» — поправил я про себя, и подумалось в смятении: «Мой рыболов из сна!». Тут наконец с громогласным подтверждением рухнула верхняя половина шкафа. Аллочка успела отскочить и, кажется, несколько протрезветь. Мы втроем так и замерли.
— Уходите оба! — приказал Гриша в сдержанном бешенстве.
Но мы, конечно, бросились поднимать неподъемный шкаф, битком набитый, как тут же выяснилось, папками — две из них выпали наружу и валялись в битом стекле.
— Гриш, надо вынуть все, — выговорила Аллочка робко, — иначе не поднять.
Я с любопытством посмотрел на обложку серой объемистой папки. «Григорий Горностаев, — было выведено четким, в отличие от моего, чеканным лиловым почерком. — Чаша терпения. Роман. 1980 год», — и не мог скрыть удивления.
— Все эти папки — твои…
— Каждая вещь — в пяти экземплярах.
— Так ты пишешь прозу?
— Почему бы нет?
Действительно, почему? Учились мы в одном семинаре на отделении прозы: потом я пошел в театр, а он в критику.
— Но почему тайком? С твоими возможностями…
Гриша, не отвечая, с остервенением запихивал папки в лежащую боком на полу половину шкафа. Я затронул слишком деликатные струны, наступил на пресловутую любимую мозоль… Очень любопытно, очень! Такие глубины открылись вдруг через двадцать-то пять лет.
Аллочка, сыграв роль «каменного гостя», удалилась, пошатываясь. Ученик: «Она вышла в горе, ломая руки, я почувствовал ее страдание». Господи, чем живут эти двое, какие фантазии осеняют его на розовом рассвете или над черным омутом? И почему пьет она? Откуда, наконец, взялись денежки на частное издательство?
Средь всего этого разора и дребезга Гриша сел в кресло, закинул ногу на ногу и закурил. Я поддержал — все молча, остро ощущая пропасть, провальчик в тайну ночную, маниакальную. «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед». Этим «винам», боюсь, не настанет; боюсь, прогоркли.
Гриша заговорил со спокойной иронией:
— Я слишком люблю русскую литературу, чтобы обременять ее… Нет, серьезно: как профессионал я ощущаю недостаток своих вещей. Пока что. Всему свой черед.
— Какой недостаток?
— Тайны.
Четко и профессионально он определил результат настоящего творчества — «тайна». Нечто не от мира сего.
— У тебя этого много? — Я кивнул на поверженный шкаф.
— Кое-что есть.
— Интересно, какую прозу пишет блестящий критик.
— Я же сказал, не блестящую. Пока что. Мне хотелось бы, — произнес он с неким пылом, — открывать собственные потаенные миры, а не блуждать, подсчитывая просчеты, в чужих.
— Ты создал свой реальный мир — издательство.
— Мне этого мало, — обронил он сдержанно и закрыл тему: — Аленька больна, поэтому — будь снисходителен — иногда перебирает.
— Что с ней?
— Давление подскакивает, ну, коньяк расширяет сосуды.
— Что ж вы скрывали? Тут необходим Василий.
— А, что может медик.
— Он — почти невозможное, выхаживает почти безнадежных.
— Отец ваш умер, Татьяна умерла.
— Он в параличе, у нее рак легких. Василий сделал все, что мог, протянул сколько мог.
— Протянул их муки?
— Он отдавал им свою жизнь.
— Да! Ты прав. Я им завидовал. Не тебе, Леон, хотя Марго всех затмит, но… Они с Татьяной жили друг для друга. Удивительная женщина. Как он выдержал…
— Работа спасла — вот это преодоление безнадежности. Больные на него молятся. Я с ним поговорю насчет Аллы.
— Не надо. У нее блажь.
Мы пристально посмотрели друг на друга. Гриша схватился за очки.
— А я все-таки поговорю.
Вышли из дома, постояли по привычке возле крыльца. Вода в бочке зацвела сплошь — давно не было дождей, — и барахталась на желто-грязной пленке обреченная бабочка. Языческий символ души — Психеи. Я ее извлек, она тяжело взлетела и упала оземь умереть или оправиться. Пахнуло мерзким смрадом — тухлыми яйцами, сероводородом по-научному. Проще — серой.