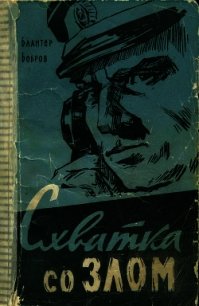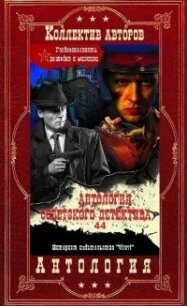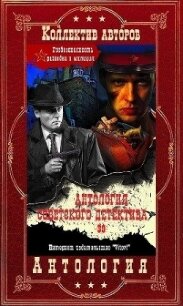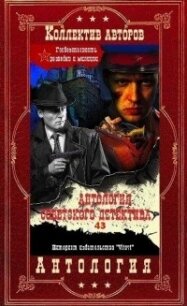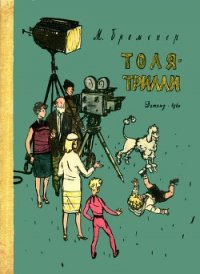Антология советского детектива-36. Компиляция. Книги 1-15 (СИ) - Ваксберг Аркадий Иосифович (лучшие книги читать онлайн .TXT) 📗
А еще раньше, когда ей было восемнадцать-девятнадцать лет, знакомые парни и девчата ласково величали ее на английский манер коротким и звучным именем Кэт. И даже муж Толик в первый год супружества иногда, в минуты интимного откровения, также жарко шептал на ушко: «милая Кэт». Но потом, когда родила первого ребенка и, как большинство женщин, после родов значительно раздобрела, другим словом, как корова, он ее уже не звал.
«Что разлеглась, как корова?» — язвил полупьяно. «Опять жрешь, как корова…» — заглядывал в рот, попрекая куском.
Может, в Индии обращение к девушке или женщине «корова» и ласковое — корова там священное животное — но не в России, не в Курске. Обидно было. Однако поначалу терпела. Позже сама ответные «ласковые» слова находила — козел вонючий, кобель бесстыжий…
В бараке она прожила около десяти лет, но ей казалось, что всю свою жизнь. Ибо пропиталась барачным духом до кончиков волос. Мужа вскоре после того, как они вселились в барак, посадили. В первый раз, но не в последний…
Как признавали сами обитатели трущоб, тут царило поголовное пьянство, ежедневные ссоры и мордобой. Поэтому ничего сверхъестественного в том не было, если время от времени кого-то из обитателей барака сажали. Вот и ее Толик после очередной попойки поссорился с соседом Петрухой Косым. Да и пырнул того с пьяных глаз кухонным ножом, которым перед этим резал закуску: шмат сальца, головку лука и полбуханки серого хлеба. И загремел Толик-алкоголик после суда на этап. А, находясь на зоне, еще «раскрутился» на трояшку. И пошло — поехало. В итоге оказалась она замужем, но без мужа.
Особо печалиться о нем ей времени не было, надо было кормить двух вечно голодных «галчат», поэтому работала днем и ночью. Получала приличную по тем временам зарплату: сто двадцать рублей. Хватало на еду и кое-какую одежду. Умудрилась даже телевизор «Рекорд» купить. Правда, в кредит.
Да и как печалиться, когда он до осуждения довольно часто бил ее. Бил без всякой причины. Просто нажирался до потери пульса и начинал, по его же собственному мнению, «воспитывать». Дети орут, а ему хоть бы что. Бил руками и ногами по всем частям тела, по голове, по лицу, по туловищу. Не стеснялся нанести удар сапожищем и в пах. Изверг был законченный. Поэтому, когда его осудили, обрадовалась: «Туда ему, козлу, и дорога».
У соседей Шаховых, Вороновых и всех иных творилось то же самое, поэтому никто никогда ни за кого не заступался. Наоборот, тишком радовались. Грешно, да что поделаешь…
Всякий раз после очередного процесса «воспитания» она забивалась в какой-нибудь угол и выла там волчицей, но тихо, не в голос, затыкая себе рот рукавом ватника или фуфайки, пропитанных заводской пылью, мазутом и соленым потом. Только тело ее крупное дрожало и ходило ходуном от обиды и боли, от зеленой тоски и безысходности. И чтобы заглушить обиду, стала все чаще и чаще прикладываться к рюмочке. Сердобольные соседки подучили.
— Э-э-э, милая, — говорила Шахиня (так все звали соседку Шахову Пелагею), — выпьешь красненькой, и на душе полегчает, словно Боженька босыми ножками прошелся!
— Такова уж наша бабская доля, — поддакивали другие. — Где бьют, там и пьют.
Время от времени в барак наведывалась милиция, в основном участковые инспектора. Иногда бывали и сотрудники уголовного розыска — это, если поблизости случалась какая-нибудь кража. И те, и другие, не церемонясь, забирали в отдел несколько жильцов, особенно из числа вновь вселившихся или же находившихся в пьяном состоянии, но вскоре отпускали. Барачная же жизнь, притихнув после милицейского посещения, вновь «устаканивалась» и шла по набитой колее. Вновь пьянки, гулянки да драки.
Центрального отопления в бараке не было. И обитатели барака отапливали свои комнатки-конуры сами в соответствии с их индивидуальными фантазиями, физическими и экономическими возможностями. А фантазии и возможности зависели скорее не от денег и того, где и что можно было добыть на законных основаниях, а оттого, где и что можно было «спулить», «свиснуть», «стибрить». По простому — украсть и притащить к себе в конуру.
В основном отопительными приборами были само-дельные «козлы», сваренные на заводе из металлических уголков, на которых крепился отрезок асбестовой трубы, густо обмотанный спиралью, и плитки — буржуйки. В некоторых комнатах были русские печи, занимавшие половину полезной площади. Но печи и плитки надо было топить. А значит, создавать себе еще дополнительные трудности и заботы: поиск топлива, его хранение. Поэтому, даже при наличии печей и буржуек электрические «козлы» пользовались популярностью, и были в каждой комнатушке неотъемлемым атрибутом данного жилища и основной бытовой техникой и мебелью. При помощи этих козлов в зимнее время обогревали помещение, а также на них готовили пищу, возле них или на них сушили отсыревшую обувь и одежду. Не раз эти «козлы» являлись виновниками пожаров, но, видно, бараку было «написано» на роду оставаться невредимым и непотопляемым, поэтому он не сгорал, а только время от времени дымил той или иной комнатой. Но тут набегали всей своей огромной сворой жильцы и отстаивали очередную комнату от огня. И только разукрашенные сажей стены и едкий запах дыма какое-то время свидетельствовали о недавнем возгорании.
Оконца в бараке были маленькие, подслеповатые, почти не пропускающие дневной свет. Это обстоятельство приводило к тому, что в комнатах стоял вечный, как космос, полумрак. У некоторых же, особо светолюбивых, почти сутками горел электрический свет.
Так уж сложилось, что барак был не просто барак, не просто социальный огрызок времени и быта, а настоящий мирок. Мирок со своим внутренним законом и порядком, со своей философией, со своим миросозерцанием и миропониманием, со своим специфическим языком и бытом.
Если в нем рождались дети, то совсем не обязательно, чтобы слово «мама» ими было произнесено первым. Довольно часто первыми словами были матерные. Нецензурной бранью, как и сивухой, были пропитаны не только стены барака, но и сам воздух в нем… и вокруг него. Поэтому дети, еще находясь в утробах своих матерей, по-видимому, уже не только слышали, но и понимали смысл этих зловонных слов. И когда наступала пора говорить, то эти слова первыми и выговаривались. В том числе и в различных вариациях со словом «мама». Впрочем, это уже происходило на более позднем этапе.
Когда посадили мужа, Екатерина, особо не переживала, так как никогда от него ничего хорошего не видела и не знала. Даже в постели он не был с ней ласков, а брал ее, по животному, грубо, словно насильничал. Но иногда ей, тогда еще тридцатилетней бабе, хотелось мужика, так как бабья природа требовала свое.
Сосед Петруха, выйдя из больницы после ранения, считал себя в какой-то степени виноватым. Пили-то вместе, и водку не поделили тоже вместе, а сел только Толик. Поэтому старался перед Катюхой загладить свою вину и ее намек понимал с полуслова.
«Буду, — говорил заговорчески и маслянел глазами, — только не забудь взять пару бутылок «червивки».
«Червивкой» или «бормотухой» величалось самое дешевое вино, имевшееся в продаже. Обычно «Волжское» или «Вермут» местного разлива. Не лучше был и «Солнцедар».
Избавившись от детей, они на пару всасывали одну или две бутылки, в зависимости от настроения, и заваливались в единственную кровать, находившуюся в ее комнате. В позах особой изобретательности не проявляли. Все больше обходились старым, как мир, способом. Но иногда он просил: «А стань-ка, избушка, к лесу передом, ко мне задом». Она не противилась и становилась. Ей и самой эта поза больше нравилась.
Приладившись, Петруха брал в ладони ее обвислые груди, мял и дергал их, словно вожжи при управлении лошадью. И в этот момент она чувствовала себя действительно молодой кобылицей. Порой ей хотелось даже заржать…. хотя бы из озорства. Но процедура секса длилась недолго. Сопя и потея от столь утомительного труда, Петруха сползал с нее, а потом, поддернув штаны, уходил к себе в комнату. И она оставалась вновь одна, разгоряченная и… почти всегда неудовлетворенная.