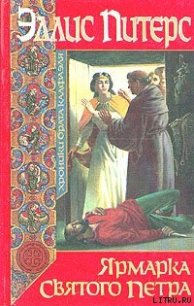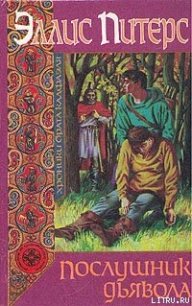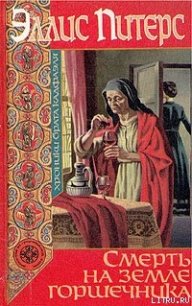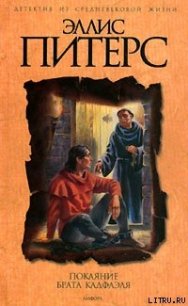Прокаженный из приюта Святого Жиля - Питерс Эллис (книга жизни .txt) 📗
— Проходите сюда, брат, посидим уж со всем удобством. У нас тут так редко бывают добрые люди. Мама, не принесешь ли нам чашу? Доброму брату предстоит проделать назад долгий путь.
Залитая солнцем комната была обставлена чрезвычайно уютно. Они сели рядом и принялись за эль да овсяные лепешки, принесенные пожилой домоправительницей. Начались разговоры о погоде урожае, о видах на зиму и даже о плачевном положении страны, раздираемой надвое королем Стефаном и императрицей. Пусть сейчас в Шропшире все мирно, мир, однако, ненадежен повсюду в этой надвое рассеченной стране. Императрице позволили соединиться в Бристоле с ее единокровным братом Робертом Глостерским. Другие вельможи тоже связали свою судьбу с ней: Бриан Фиц-Каунт, кастелян Уоллингфорда, Майлз, констебль Глочестера, и многие помимо них. Ходили слухи, что город Ворчестер подвергнется нападению со стороны Глочестера. Собеседники выразили искреннюю надежду на то, что волна военных действий не приблизится к Шропширу, а может быть, не затронет даже и Ворчестер.
Но все время, пока велись подобные безобидные разговоры, Кадфаэль напряженно размышлял. И в конечном счете управляющий, наверное, все же допустил просчет, пригласив травника зайти в дом, чтобы тот мог сам убедиться, как в нем уютно, ухоженно и невинно. Ибо, конечно же, не эта старуха принесла в комнату слабое, с трудом уловимое благоухание духов. Та же, что оставила его здесь, покинула дом не слишком давно: за несколько дней такой аромат уже выветрился бы. У Кадфаэля было чрезвычайно развито обоняние, он знал запахи вытяжек из разных растений и узнал в этом благоухании запах жасмина.
Больше здесь ничего нельзя было обнаружить. Монах поднялся, простился с хозяином и поблагодарил за гостеприимство. Управляющий почтительно проводил его. Он явно хотел проследить за тем, чтобы гость точно отбыл назад, в аббатство. Лишь по чистой случайности старуха в этот момент как раз выходила из конюшни и оставила дверь за собой распахнутой настежь, не сразу заметив, что гость уже вышел во двор. Ее сын быстро и проворно рванулся через двор к конюшне, закрыл дверь и бросил задвижку на место. И все же он был недостаточно скор.
Кадфаэль ни единым жестом не дал понять, что заметил больше, чем ему полагалось. Он бодро простился с хозяином у ворот, возле куста ракитника, увитого голубыми цветами взамен золотых. Затем монах непринужденно зашагал обратно той же дорогой, по которой пришел.
В конюшне находилась лошадь, стать которой, безусловно, не позволяла ей носить на себе мощное и грузное тело Домвиля или же выдержать день охоты даже под кем-нибудь из его свиты. За распахнутой дверью Кадфаэль мельком увидел изящную белую голову, любопытную мордочку, выглядывавшую наружу, выгнутую шею, заплетенную гриву, а также висевшую на двери с внутренней стороны легкую, богато украшенную сбрую. Чудная белая испанская лошадка, подходящая для выездов дамы, и роскошное снаряжение — как раз такое, как приличествует даме. И тем не менее, спроси травника кто-нибудь, он поклялся бы, что сейчас никакой дамы в охотничьем домике нет. Никто не предупреждал хозяев о приближении гостя, времени спрятать ее у них не было. Его ввели в дом, чтобы он воочию убедился: ее там нет, там нет вообще никого, кроме постоянных хранителей усадебки.
Почему же тогда — как бы ни встревожила даму мысль о том, что ее могут отыскать, нарушить уединение, выставить напоказ как имеющую какое-то отношение к смерти Домвиля, а то и заподозрить в прямой причастности к ней, — почему она предпочла уйти отсюда пешком, оставив лошадь в конюшне? Да и куда бы в столь отдаленной и безлюдной местности могла пойти подобная дама?
Кадфаэль не стал возвращаться в аббатство той же кратчайшей дорогой. Он продолжал свой путь по зеленой тропе, вышел по ней к Форгейту и направился к дому епископа. На огромном внутреннем дворе, обычно таком шумном, нынче в полдень царила полнейшая тишина. Даже грумов и всех крепких, здоровых слуг отправили прочесывать местность, и теперь они занимались поисками где-то в лесах. Остались одни престарелые. Это, впрочем, вполне устраивало Кадфаэля: самые старые слуги обычно лучше всех осведомлены в личных делах господина — неважно, признавались ли они в этом хоть раз или нет. К тому же отсутствие востроухой и охочей до чужих тайн молодежи делало доверительную беседу более вероятной.
Кадфаэль разыскал слугу Домвиля. Тот, по слухам, состоял на службе у своего хозяина много лет, да вдобавок обладал незаурядным умом. Так что он должен был понять: теперь, когда барона уже нет в живых, разумнее всего говорить неприкрытую правду. Больше ведь бояться некого, а полная откровенность сослужит наилучшую службу в глазах шерифа. Впереди — неизбежное междуцарствие, а затем новый хозяин. Слуги вне подозрения, им нечего опасаться. Так зачем скрывать что-то, что может оказаться существенным?
Слуге давно перевалило за шестьдесят. Это был седовласый и степенный человек. Выражение его глаз свидетельствовало об отсутствии всяких иллюзий. Он держался покорно, был замкнут, что свойственно большинству старых слуг. Звали его Арнульф. На все вопросы шерифа он ответил без колебаний и выразил готовность ответить с той же прямотой на другие, которые Кадфаэль или кто-то еще мог бы ему задать. Целая эпоха в его жизни подошла к концу со смертью его господина. Теперь ему предстояло приспособиться к службе при новом правителе или уйти в отставку и наслаждаться досугом.
Как бы то ни было, вопроса, который Кадфаэль ему задал, Арнульф, конечно же, не ожидал.
— Ваш господин прослыл женолюбом. Скажите мне вот что: имелась ли у него любовница, настолько ему дорогая, или, скажем, новая возлюбленная, которой он так увлекся, что ему было не обойтись без нее даже те несколько дней, что он отвел для женитьбы на наследнице дома Массаров? Такая, которую он мог привезти сюда с собой и поселить где-нибудь в пределах досягаемости, хотя, может, и в отдалении?
Старик в изумлении уставился на монаха. Непривычно было слышать столь откровенные речи из уст человека в облачении бенедиктинца. Однако, подвергнув травника пристальному изучению, слуга пришел к выводу, что, в общем-то, ничего такого уж удивительного тут нет, и стал держаться заметно раскованнее.
Видимо, у них обоих одинаковый жизненный опыт, значит, и общий язык можно найти.
— Брат, не знаю уж, как вам это удалось, но вы попали в точку: да, такая женщина есть. Им вообще-то нет числа, его женщинам, самым разным. Лично я никогда не был до них великим охотником, у меня и так есть за кем все время ухаживать. Но он не мог остаться без них надолго. Они появлялись возле него и исчезали. Без счета! Но есть одна не такая. Она остается. Бессменная, будто жена. Словно старый халат или пара туфель: с ней легко и уютно, ему не надо ничего придумывать или из кожи вон лезть, чтобы льстить ей да угождать. У меня всегда было чувство, что куда бы он ни отправился, она окажется где-то неподалеку, — задумчиво сказал Арнульф, почесав бороду тонкими пальцами. — Но я ни разу не слышал, чтобы он собирался привезти ее сюда. Правда, он никогда не прибегал к моим услугам в подобных делах. Я помогал ему надевать штаны да рубашки, стягивал с него сапоги, после охоты и спал поблизости, чтоб принести ему вина, ежели он потребует. К женщинам я не имел отношения. Это уже другая служба. А что, прошел слух о ней? Здесь о ней не упоминали ни разу. Я всерьез удивился.
— А о кобылке, — спросил Кадфаэль, — совершенно белой, с белой гривой — тоже ни разу? Чудная дамская лошадка испанских кровей, могу вам сказать, хотя видел ее только мельком. Да еще с золоченой уздечкой — она висела на двери конюшни.
— Знаю эту лошадь, — сказал встревоженный Арнульф. — Он купил ее как раз для той женщины. Мне не полагалось даже слыхом слышать о подобных вещах. Где же вы ее видели?
Кадфаэль сказал ему где.
— Лошадь — да, но не женщину. Она оставила там свою кобылку и запах духов, сама же ушла.
— Что ж, надо полагать, она вполне могла опасаться, что ее впутают в историю с убийством, и, наверное, стремилась этого избежать, — рассудительно произнес Арнульф. — Конечно, раз она была в домике, а милорда, как говорят, нашли на той самой тропе, так, похоже, он именно к ней и отправился, когда отпустил молодого Симона и поехал куда-то один.