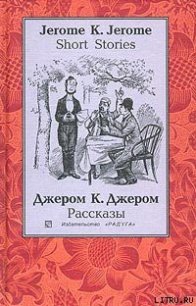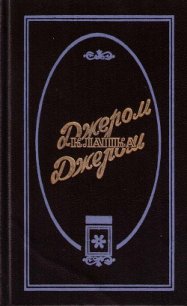Досужие размышления досужего человека - Джером Клапка Джером (читаемые книги читать онлайн бесплатно TXT) 📗
Восемь лет спустя мне пришлось сопровождать мистера Водокачку, ставшего крепким, занудливым, неуклюжим парнишкой, в школу в Швейцарии, потому что его отец никак не мог выкроить на это время. Это было мое первое путешествие на континент. Я бы получил от него больше удовольствия, если бы не мальчик. Он решил, что Париж — это грязная дыра. Он не разделял моего восхищения француженкой, он даже заявил, что она плохо одета.
— Зачем так затягиваться, она даже не может идти прямо, — вот единственное впечатление, которое она на него произвела.
Мы сменили тему. Меня раздражало то, что он говорил. Красивые, похожие на Юнону создания, которых мы встретили позже, в Германии, оказались, на его взгляд, слишком толстыми. Хотелось бы ему увидеть, как они бегают. Я счел его совершенно бездушным.
Ожидать, чтобы мальчику нравились учение и культура — все равно что ожидать, чтобы он предпочел старый выдержанный кларет крыжовенной наливке. Культура для большинства — это приобретенный вкус. Лично я полностью согласен с университетским профессором. Я считаю знания, побуждающие к наблюдениям и ведущие к размышлениям, самым лучшим багажом, каким может обеспечить себя человек, путешествующий по жизни. Мне бы хотелось обладать еще большими знаниями. Иметь возможность насладиться картиной куда лучше, чем иметь возможность ее купить.
Все, что тот университетский профессор может предложить во славу идеализма, я готов поддержать. Но при этом мне… ну, скажем, тридцать девять. В четырнадцать я бы откровенно заявил, что он несет чушь. Глядя на старого джентльмена — узкогрудого старого джентльмена в очках, проживавшего на соседней улице, — я бы не сказал, что он получает какое-то удовольствие от жизни. Это точно был не мой идеал. Он говорил, что мне должны понравиться книги, написанные на языке под названием «греческий», но тогда я не успел прочитать даже всего «Капитана Мариэтта», а еще были книги сэра Вальтера Скотта и «Школьные дни Джека Харкуэя». Мне казалось, что с греческими можно немного погодить. Там был один парень по имени Аристофан, он писал комедии, высмеивающие политические законы страны, исчезнувшей две тысячи лет назад. Без капли стыда могу сказать, что пантомимы «Друри-Лейн» и цирк Барнума интересовали меня намного больше.
Желая дать тому старому джентльмену шанс, я полистал переводы. Некоторые из этих стариканов оказались не так плохи, как я предполагал. Старикашка по имени Гомер писал по-настоящему интересные вещи. Возможно, кое-где занудно, но в общем и целом очень даже ничего, и действия хватает. Был еще один такой — Овидий. Этот Овидий мог рассказать отличную историю. Воображения ему хватало. Почти так же здорово, как «Робинзон Крузо». Я думал, что моему профессору будет приятно, если сказать ему, что я почитал его любимых авторов.
— Почитал! — воскликнул он. — Но ты же не знаешь ни греческого, ни латыни!
— Зато я знаю английский, — ответил я. — Их всех перевели на английский, а вы мне этого не говорили!
Оказалось, что это не одно и то же. Имелись какие-то тонкие нюансы, неизбежно ускользнувшие даже от лучших переводчиков. И насладиться этими тонкими нюансами я мог, только посвятив следующие семь или восемь лет жизни изучению греческого и латыни. Это повергнет университетского профессора в скорбь, но я не считал, что наслаждение теми тонкими нюансами — пожалуйста, не забудьте, в то время мне было всего четырнадцать — стоит такого труда и потери времени.
Юноша склоняется к материальной стороне жизни — американский профессор это уже обнаружил. Я не хотел быть идеалистом, живущим в каком-нибудь закоулке. Я хотел жить в самом большом доме на самой лучшей улице города. Хотел ездить верхом на лошади, носить меховое пальто и есть и пить столько, сколько захочу. Хотел жениться на самой красивой женщине на свете, видеть свое имя, напечатанное в газете, и знать, что мне все завидуют. Скорбите над этим, мой дорогой профессор, сколько пожелаете — таковы идеалы юности. И до тех пор, пока человеческая природа останется тем, что она собой представляет, такими они и будут. Это материалистические идеалы — низменные идеалы. Возможно, это необходимо. Возможно, мир не ушел бы далеко, если бы молодые люди начинали размышлять слишком рано. Они хотят разбогатеть, поэтому неистово кидаются в борьбу. Они строят города, прокладывают железнодорожные пути, вырубают леса и добывают из земли руду. Потом наступает день, когда они понимают, что попытка разбогатеть — это довольно жалкая игра; что утомительнее, чем быть миллионером, лишь одно — пытаться стать миллионером. А тем временем мир уже получил то, чего хотел.
Американский профессор боится, что художественное развитие Америки оставляет желать много лучшего. Я боюсь, что художественное развитие большинства стран оставляет желать много лучшего. Почему сами афиняне вставляли свои драмы между состязаниями по борьбе и боксерскими матчами? Пьесы Софокла или Еврипида давались как побочные представления. Главными событиями ярмарки были игры и скачки. Кроме того, Америка пока еще юноша. Он занят тем, что «встраивается» в мир, и пока еще это не закончил. Однако появились признаки того, что юноша Америка приближается к тридцати девяти годам. Он уже находит немного времени и немного денег, которые можно потратить на искусство. Я почти слышу, как юноша Америка — уже не такой молодой, как раньше, — входит в лавку, закрывает за собой дверь и говорит миссис Европе:
— Ну, мэм, вот и я, и, может быть, вы будете рады узнать, что я готов потратить немного денег. Да, мэм, я многое наладил там, за океаном, голодать мы не будем. И теперь, мэм, мы с вами можем поболтать насчет этого вашего искусства, о котором я наслышан. Давайте-ка взглянем на него, мэм, показывайте — и не бойтесь назначить за него честную цену.
Я склонен думать, что миссис Европа не колебалась, назначая хорошую цену за искусство, которое продала Дяде Сэму. Боюсь, миссис Европа кое от чего просто избавилась, всучив это Дяде Сэму. Как-то раз, теперь уже много лет назад, я беседовал с неким дельцом в клубе «Все-чего-пожелаешь».
— Какая картина скорее всего исчезнет в следующий раз? — спросил я его во время разговора.
— Одна маленькая штучка от Хоппнера, раз уж что-то должно, — ответил он с полной уверенностью.
— Хоппнер, — пробормотал я. — Кажется, я слышал это имя.
— Ага. А в следующие примерно восемнадцать месяцев будете слышать его куда чаще. Смотрите, как бы оно вам не надоело, — засмеялся он. — Да, — продолжил он задумчиво, — Рейнолдс уже исчерпал себя. Из Гейнсборо тоже много не выжмешь. Заниматься ими — все равно что держать почтовую контору. Хоппнер — вот это многообещающий парень.
— Вы покупали Хоппнера дешево? — предположил я.
— Между нами, — ответил он, — да, и думаю, что мы собрали все. Может, осталось еще несколько, но не думаю, что мы что-то пропустили.
— А продадите намного дороже, чем отдали за него, — намекнул я.
— А ты умен, — произнес он, глядя на меня с восхищением. — Видишь все насквозь.
— А как вы это делаете? — спросил я. Это было как раз то время суток, когда он впадал в доверительное настроение. — Ну, вот есть художник Хоппнер. Полагаю, вы скупили его по средней цене сто фунтов за картину, и за эту цену большинство владельцев с радостью его продали. Мало кто слышал о нем за пределами художественных школ. Бьюсь об заклад, что в настоящий момент не найдется ни единого художественного критика, который сумеет правильно написать его имя, не заглядывая в словарь. За полтора года вы распродадите его по цене от тысячи до десяти тысяч фунтов. Как это получается?
— А как получается все, что получается хорошо? — отозвался он. — Нужно как следует постараться. — И придвинул ко мне кресло. — Есть у меня один парень — ну, из таких парней, вот он напишет статью про Хоппнера. Я найму другого, чтобы ему ответить. И прежде чем я успею оглянуться, появится сотня статей про Хоппнера — о его жизни, о том, как он в юности пытался пробиться, анекдоты о его жене. И тогда одну картину Хоппнера продадут на публичном аукционе за тысячу гиней…