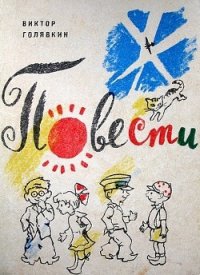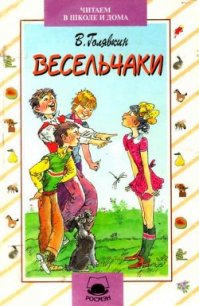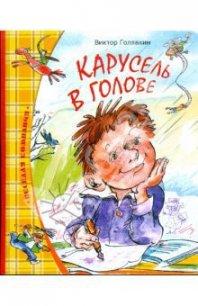Тетрадки под дождём - Голявкин Виктор (бесплатные книги полный формат .txt) 📗
Алька
Я волосы отрастил, и они у меня назад зачёсывались. Меня стали дёргать за волосы. Попом Толоконным Лбом звать, Мочалкой.
Я наголо постригся. Ещё хуже стало. «Лысый! — кричат. — Кочан капусты!» По голове часто гладят.
Сижу я со своей лысой головой на задней парте. Приходит к нам в класс новенький. Такой чёрненький, и глаза чёрные. Его со мной посадить хотели. Как раз я один сидел. А он не хочет.
— Это почему же, — спрашивает Мария Николаевна, — ты с ним сидеть не хочешь?
А он твёрдо так отвечает:
— Я с ним сидеть не буду.
— Это почему же? — спрашивает Мария Николаевна.
— Потому что он лысый.
Хотел я вскочить, дать ему за это.
Мария Николаевна говорит:
— Что за чушь! Он, во-первых, не лысый, а постриженный, а во-вторых, если бы даже он и был лысый…
Он твердит:
— Я с ним сидеть не буду.
— Почему же ты всё-таки с ним сидеть не хочешь? — спрашивает Мария Николаевна.
— А потому, — отвечает, — что я уже с лысым сидел, так меня с ним заодно дразнили, хотя я и не был лысый.
— Какая дикость! — удивилась Мария Николаевна.
В конце концов он всё же сел. Со мной не разговаривает. В мою сторону не смотрит. Я тоже на него не смотрю, но вижу, что он листок вынул и что-то рисует.
Вижу я — рисует он конницу, скачущую в атаку. До чего здорово у него получалось — ну как у настоящего художника! Как будто он сто лет учился. Никогда я не видел, чтобы кто-нибудь так коней рисовал.
Я сразу подумал, что мне так никогда не нарисовать, сколько бы я ни старался, но в то же время, если я как следует постараюсь, я не хуже нарисую.
Я хотел показать ему, как надо рисовать. А потом сделал вид, что не вижу. Он ведь не знает, что я лучше всех в классе рисую. Скажет, я подражаю. Скажет, я обезьяна какая-нибудь или там попугай.
Ничего. Потом он узнает, кто с ним рядом сидит! Потом он узнает, какие я стенгазеты рисовал! Какого я Шота Руставели нарисовал. Какого я лётчика Покрышкина нарисовал, трижды Героя Советского Союза!
Пусть, пусть рисует!
А потом думаю: он, наверное, вовсю сейчас воображает. Сидит и воображает, будто никого на свете лучше нету. Выходит, он будет здесь воображать, а я? Просто так буду сидеть?
Я вырвал листок из тетради. И стал рисовать танки, идущие в атаку.
Он сначала не заметил, что я тоже рисую, или он не хотел замечать, а потом заметил и рисовать перестал.
На мой рисунок глядит.
Я это сразу почувствовал. И вовсю рисую, на него никакого внимания не обращаю. Только локтем свой рисунок закрываю, чтобы он не видел.
Вдруг он говорит:
— А ну, покажи.
— Чего, чего? — говорю.
— Покажи, — говорит, — что ты там такое начирикал.
— Чего, чего? — говорю.
— Ас, ас! — говорит.
— Чего? — говорю.
— Осторожно! — говорит. — Ас, ас!
— Что это, — говорю, — ещё за ас, ас?
— Ра-ра! — говорит. — Ра-ра! Работай.
Вот нашёлся какой! Какие-то слова мне бормочет. Удивить, наверное, меня этими словами хочет. Что бы, думаю, ему такое ответить, чтобы он так со мной разговаривать перестал? В это время он мне говорит:
— Вот если тебя спросит кто-нибудь: «Ты не кр?» — ты что ответишь?
— Чего, чего? — говорю.
— Нужно ответить: «Я не кр!» Понятно?
Тут я разозлился и говорю ему:
— Крыса ты!
Я сам не знаю, почему его крысой обозвал. Просто ничего другого мне в голову не пришло.
Он поднимает руку и говорит Марии Николаевне:
— Он меня крысой обозвал!
Мария Николаевна говорит:
— Как тебе не стыдно, Стариков! К нам пришёл новенький, он, наверное, стесняется, а ты его крысой обозвал…
— Кто? — говорю. — Он стесняется?!
До чего меня зло взяло, вы не представляете!
— Если ты мне сейчас не ответишь, с какой скоростью летят навстречу друг другу самолёты, ты покинешь класс…
Я встаю.
— Какие самолёты? — спрашиваю.
Я, наверное, здорово моргал глазами, потому что Мария Николаевна вдруг сказала:
— Брось моргать! Ну-ка брось моргать! Дурачка представлять!
Моргал-то я просто случайно. Но я ничего не ответил. И всё молчал. А про эти самолёты я вообще ничего не слышал.
— Ну? — говорит Мария Николаевна.
— Повторите, пожалуйста, про эти самолёты, — говорю.
— Выйди, будь добр, из класса, — говорит Мария Николаевна.
— Если бы вы повторили ещё раз… — говорю.
— Я не могу слушать твои речи, — говорит Мария Николаевна.
Я собираю книги. Ничего такого я не сделал. Если бы я, там, мяукнул, как в прошлый раз. А сейчас? Его ко мне посадили, а я виноват!
Я сижу на последней парте. Иду медленно к двери. Через весь класс.
— Страна залечивает раны после войны, — говорит вслед мне Мария Николаевна, — миллионы заняты созидательным трудом, миллионы трудятся, а один…
Я уже возле двери.
— Подожди, — говорит Мария Николаевна.
Я останавливаюсь.
— Подойди-ка сюда.
Я подхожу.
Она почему-то волнуется. Вот уже совсем непонятно. Ей-то чего волноваться? Меня из класса выгоняют, а она волнуется.
Я стараюсь больше не моргать.
— Тебе не стыдно? — говорит Мария Николаевна.
Она держит в руках ручку, наверное, мне двойку хочет поставить. А руки у неё сильно дрожат. Это, наверное, потому, что она очень старенькая. Говорят, у старых людей всегда руки дрожат от старости…
— Я к тебе хорошо отношусь, — говорит она, — и ты, Стариков, способный человек. А ведь ты мне на голову садишься… И потом, пожалуйста, не воображай. Ты можешь пропасть… как камень, брошенный в море. И не улыбайся. Пропадёшь или будешь босяком вместе со своими художествами. Если не будешь учиться… Люди, честно не относящиеся к своему труду, обычно плохо кончают…
Она не собирается мне ставить двойку.
— Стенгазету нарисуешь? — спрашивает меня Мария Николаевна.
— Нарисую, — говорю.
— Чтобы была на славу, — говорит она.
— Ладно, — говорю я.
— Разве ты для меня стенгазеты рисуешь? — говорит она.
Я иду на место. Сажусь рядом с новеньким.
— Ра-ра! — говорит он тихо. — Ра-ра! — Прямо в самое ухо мне говорит, представляете?
Я встаю.
— Я с ним сидеть не буду, — говорю я.
Мария Николаевна смотрит на меня и хмурится.
— Я с ним сидеть не хочу, — говорю.
— Выходите оба! — говорит Мария Николаевна. — Я не желаю слушать ваши речи!
Мы оба выходим.
Я с одной стороны. Он с другой. Я первый вышел в коридор, а он за мной.
Вдруг он говорит:
— Слушай, тут, наверное, разные завучи ходят… Пойдём в уборную.
— Я в уборную не хочу, — говорю.
— Самое безопасное место, — говорит. — Сиди себе в полной безопасности.
Я сначала совсем не хотел в уборную идти. А потом пошёл. И вправду, думаю, там, наверно, безопаснее.
Каждый в свою кабину сел. Сидим себе в полной безопасности. Здорово это он придумал!
Сидели, сидели, он мне постучал.
— Сидишь? — спрашивает.
— Сижу, — говорю.
— Как тебя звать? — спрашивает.
— Витька, — говорю.
— А я Алька, — говорит.
— Очень приятно, — говорю.
— Очень приятно, — говорит.
У нас с ним много общего оказалось. Масляными красками он, оказывается, так же как и я, никогда не писал. И рисовать его тоже никто не учил. Он сам всему научился. Он с самого детства на асфальте рисовал. Пойдёт с бабушкой в садик и рисует мелом на асфальте. Я стал вспоминать и вспомнил, что я раньше тоже рисовал на асфальте.
— Ты много на асфальте рисовал? — спросил он.
— Много, — сказал я.
— Хорошая школа, — сказал он.
— Какая школа? — не понял я.
— Художественная, — сказал он.
— Ага, — сказал я. Хотя всё равно не понял.
— На асфальте. На бумаге. На холсте, — сказал он.
— Ну да, — сказал я.
— Все истинные художники начинали рисовать на асфальте, — сказал он. — Так мне один художник сказал.
— Конечно, — сказал я. Хотя никак не мог понять, почем они все начинали рисовать на асфальте.