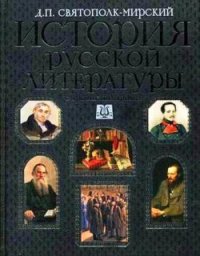История русской литературы с древнейших времен по 1925 год. Том 1 - Святополк-Мирский (Мирский) Дмитрий Петрович (онлайн книга без TXT) 📗
ученый. По сравнению с Толстым Фрейд – поэт и сказочник.
Хваленая толстовская фамильярность в обращении с
подсознательным – это фамильярность завоевателя в завоеванной
стране, фамильярность охотника с дичью.
С того времени, когда Толстой начинал свой дневник, и до Войны
и мира писание было для него борьбой за овладение реальностью,
поисками метода и техники словесного ее выражения. В 1851 году он
прибавил сюда проблему превращения записанного факта в
литературу. Толстому это удалось не сразу. Первая его попытка
написать художественное произведение дошла до нас только недавно.
Она называется История вчерашнего дня. По-видимому, это начало
рассказа о действительно прожитых им сутках, без выдумки – только
запись. Она только должна была быть полнее, чем дневниковые
записи, менее избирательна и подчинена общему замыслу. В смысле
деталей История находится почти на прустовском, если не на
джойсовском уровне. Автор, можно сказать, упивается своим
анализом. Он, молодой человек, обладает новым инструментом,
который, как он полностью уверен, будет его слушаться. Впечатление
это больше нигде и никогда не повторяется. Такое буйство
требовалось подчинить и дисциплинировать, прежде чем показывать
публике. Оно требовало более литературной, менее «дневниковой»
одежды, его необходимо было обуздать условностями. При всей
своей первопроходческой отваге, Толстой не осмелился продолжать в
направлении «записывания всего». И чуть ли не приходится
пожалеть, что он этого не сделал. Абсолютная оригинальность
Истории вчерашнего дня осталась непревзойденной. Если бы он
продолжал двигаться в этом направлении, он, вероятно, не встретил
бы такого немедленного признания, но в конце концов, может быть,
выдал бы в свет еще более изумительное собрание произведений.
В свете Истории вчерашнего дня Детство кажется чуть ли не
сдачей позиций всем условностям литературы. Из всего, написанного
Толстым, в Детстве яснее видны внешние литературные влияния
(Стерн, Руссо, Тепфер). Но даже и теперь, в свете Войны и мира,
Детство сохраняет свое особое, невянущее очарование. В нем уже
присутствует та чудесная поэзия реальности, которая достигается без
помощи поэтических средств, без помощи языка (несколько
сентиментальных, риторических мест скорее мешают), благодаря
одному только отбору существенных психологиче ских и реальных
подробностей. Что поразило весь мир как нечто новое, никем до той
поры не проявленное – это уменье вызывать воспоминания и
ассоциации, которые каждый признает своими собственными,
интимными и единственными, с помощью подробностей, памятных
всем, но отброшенных каждым как незначительные и не стоящие
запоминания. Нужен был жадный рационализм Толстого, чтобы
навсегда зафиксировать те мгновения, которые существовали, но
которых от начала времен никто никогда не записывал.
В Детстве Толстому впервые удалось транспонировать сырье
записанных переживаний в искусство. Оно было написано с
литературной целью. С целью сделаться литературой. На это время
Толстой оставил свое первопроходчество, удовлетворившись
равновесием между уже приобретенным и формой, не слишком
нарушающей принятые в литературе условности. Во всем, что он
писал после Детства и до Войны и мира включительно, он
продолжал движение вперед, экспериментируя, оттачивая свой
инструмент, никогда не снисходя до того, чтобы принести в жертву
художественности свой интерес к процессу работы. Это видно по
продолжениям Детства – по Отрочеству (1854) и Юности (1856), в
которых поэтическая, вызывающая воспоминания атмосфера
Детства все больше и больше редеет, и все резче проступает момент
чистого, неприкрашенного анализа. Это еще заметнее в его рассказах
о войне и о Кавказе: Набег (1852), Севастополь в декабре,
Севастополь в мае, Севастополь в августе (1856), Рубка леса (1856).
В них он берется за разрушение романтических представлений,
связанных с обеими этими архиромантическими темами. Чтобы
понять генезис этих рассказов, надо увидеть, что они направлены
против романтической литературы, против романов Бестужева и
байронических поэм Пушкина и Лермонтова. «Деромантизация»
Кавказа и войны осуществлена обычными толстовскими методами –
всепроникающим анализом и «остраннением». Битвы и стычки
рассказаны не пышной терминологией военной истории, не приемами
батальной живописи, а обычными словами, с обычными, ничуть не
вдохновляющими подробностями, сразу поразившими рассказчика,
которые только позднее память, сохранившая имена, превратит в
сцены героических битв. Здесь более, чем где-либо Толстой следовал
по стопам Стендаля, чей рассказ о битве при Ватерлоо он считал
отличным примером военного реализма. Тот же процесс разрушения
героических мифов был продолжен в беспощадном анализе
психологической работы, приводящей к проявлениям храбрости,
состоящей из тщеславия, недостатка воображения и стереотипного
мышления. Но несмотря на такое сниженное изображение войны и
воинских доблестей, от военных рассказов не складывается
впечатление, что они развенчивают героев и милитаризм. Скорее, это
прославление безотчетного нечестолюбивого героизма в отличие от
героизма расчетливого и честолюбивого, солдата и кадрового
офицера в отличие от петербургского офицерика, прибывшего на
фронт, чтобы изведать поэзию войны и получить Георгия.
Непреднамеренная, естественная храбрость простого солдата и
офицера – вот что больше всего поражает читателя этих рассказов.
Скромные герои ранних военных рассказов Толстого – потомки
пушкинского капитана Миронова и лермонтовского Максима
Максимыча и веха на пути к солдатам и армейским офицерам Войны
и мира.
В рассказах, написанных во второй половине пятидесятых годов
и в начале шестидесятых, Толстого больше интересует нравоучение,
чем анализ. Эти рассказы – Записки маркера, Два гусара (1856),
Альберт, Люцерн (1857), Три смерти, Семейное счастье (1859),
Поликушка (1860) и Холстомер, история лошади (1861, опубликован
в 1887) – откровенно дидактичны и нравоучительны, гораздо больше,
чем рассказы последнего, догматического периода. Главная мораль
их – фальшь цивилизации и превосходство естественного человека
над человеком цивилизованным, думающим, сложным, с его
искусственно раздутыми нуждами. В целом они не свидетельствуют,
в отличие от военных рассказов, ни о новых успехах толстовского
метода присвоения и переваривания реальности, ни о развитии его
умения превращать в искусство сырой жизненный опыт (как
Детство и Война и мир). В большинстве своем они сырые, а
некоторые (как, например, Три смерти) могли бы быть написаны и не
Толстым. Современные критики были правы, увидев в них если не
падение, то, во всяком случае, остановку в развитии толстовского
гения. Но они важны как выражение той ненасытной нравственной
потребности, которая в конце концов привела Толстого к Исповеди,
ко всем его поздним произведениям и к его учению. Люцерн, с его
искренним и горьким негодованием по поводу эгоизма богатых
(который, правда, он был склонен, полуславянофильски, считать
особенностью материалистической западной цивилизации), особенно
характерен как предвестие духа его последних произведений. Как
художественная проповедь Люцерн, несомненно, одна из самых