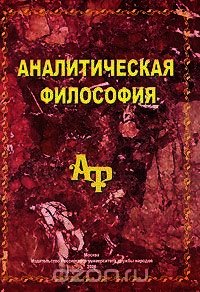Эмпиризм и субъективность. Критическая философия Канта. Бергсонизм. Спиноза (сборник) - Делез Жиль (читать книги онлайн регистрации .txt) 📗
Бергсонизм
Глава I. Интуиция как метод
Длительность, Память, Жизненный порыв — таковы главные вехи философии Бергсона. Цель предлагаемой книги в том, чтобы, во-первых, установить связь между этими тремя понятиями [notions] и, во-вторых, представить то концептуальное развитие, какое они в себе несут.
Интуиция — метод Бергсонизма. Интуиция — это ни чувство, ни вдохновение, ни неупорядоченная симпатия, а вполне развитый метод, причем один из наиболее полно развитых методов в философии. Он имеет свои строгие правила, задающие то, что Бергсон называет «точностью» в философии. По правде говоря, Бергсон сам подчеркивает данное обстоятельство: интуиция — как он методологически понимает ее — уже предполагает длительность. «Размышления относительно длительности, как мне кажется, стали решающими. Шаг за шагом они вынуждали меня возводить интуицию до уровня философского метода. Впрочем, использование самого слова интуиция заставляло меня долго колебаться».1 Он пишет Гефдингу: «Теория интуиции, которую вы предпочитаете теории длительности, прояснилась для меня лишь значительно позже».2
Но и у интуиции, и у длительности множество смыслов. Конечно же интуиция вторична по отношению к длительности и памяти. И действительно, пока эти понятия [notions] сами по себе обозначают живую реальность и живой опыт, у нас нет никакой возможности постичь [соnnаotre] их (с той точностью, какая присуща науке). Как ни странно, можно сказать, что длительность оставалась бы чисто интуитивной (в обычном смысле этого слова), если бы интуиция (в собственно бергсоновском смысле) не выступала здесь в качестве метода. Дело в том, что Бергсон полагается на интуитивный метод, дабы учредить философию как абсолютно «точную» дисциплину, — дисциплину, которая точна в своей области (как наука в своей) и могла бы продолжаться и передаваться так же, как это происходит в самой науке. И без методологической нити интуиции связь между Длительностью, Памятью и Жизненным порывом оставалась бы — с точки зрения познания — неопределенной. Учитывая все это, мы вынуждены поставить интуицию — как строгий и точный метод — во главу угла нашего исследования.3
Самый общий методологический вопрос таков: каким образом интуиция — изначально указывающая на непосредственное знание [connaissance] — может оформиться в метод, коль скоро считается, что метод, по существу, подразумевает одно или несколько опосредовании? Бергсон часто представляет интуицию как простой акт. Но с его точки зрения простота вовсе не исключает качественную и виртуальную множественность, разнообразие направлений, в которых последняя актуализируется. Значит, именно в этом смысле интуиция подразумевает множество аспектов и многообразные несводимые друг к другу точки зрения.4 В сущности, Бергсон различает три разных типа действий, задающих, в свою очередь, правила метода: первый касается самой постановки и созидания проблем; второй — обнаружения подлинных различий по природе [differences de nature]; третий — схватывания реального времени. Демонстрируя, как мы переходим от одного смысла к другому и в чем, собственно, состоит «фундаментальный смысл», мы можем переоткрыть простоту интуиции в качестве живого акта и, тем самым, ответить на общий методологический вопрос.
ПЕРВОЕ ПРАВИЛО: Проверка на истинность или ложность должна применяться к самим проблемам. Нужно отбрасывать ложные проблемы и примирять истину и творчество на уровне проблем.
Мы не правы, полагая, что истинность и ложность относятся лишь к полученному решению, что проверка на истинность и ложность начинается только с решения. Это, по сути, социальный предрассудок (все выглядит так, как если бы и общество, и язык, передающий порядок слов этого общества, «ставили» перед нами уже готовые проблемы — будто те извлекаются из «архивов городских чиновников» — и обязывали нас «решать» их в узких рамках оставленной полоски свободы). Более того, этот предрассудок возвращает нас в детство, в учебный класс: именно школьный учитель «ставит» проблемы; задача ученика — найти решение. И именно так мы попадаем в своего рода рабство. Подлинная же свобода состоит в способности принимать решение, конституировать сами проблемы. И такая «полубожественная» способность влечет за собой исчезновение ложных проблем, а также творческую постановку истинных проблем. «Правда в том, что для философии, да и не только для нее, речь идет, скорее, о нахождении проблемы и, следовательно, о ее формулировке, чем о решении. Ибо спекулятивная проблема разрешается, как только она соответствующим образом поставлена. Под этим я имею в виду, что тогда ее решение существует, хотя и может оставаться спрятанным или, так сказать, скрытым: единственное, что остается сделать, так это открыть его. Но постановка проблемы — не просто открытие, это — изобретение. Открытие должно иметь дело с тем, что уже существует — актуально или виртуально; значит, рано или поздно оно определенным образом должно произойти. Изобретение же наделяет бытием то, чего на самом деле не существует; оно могло бы никогда не произойти. Уже в математике, а еще более в метафизике, изобретательское усилие чаще всего состоит в порождении проблемы, в созидании терминов, в каких она будет ставиться. Итак, постановка и решение проблемы весьма близки к тому, чтобы уравняться: подлинно великие проблемы выдвигаются только тогда, когда они разрешимы».5
И не только вся история математики подтверждает правоту Бергсона. Последнее предложение из приведенного только что текста можно сравнить с формулой Маркса, пригодной для самой практики: «Человечество ставит лишь те проблемы, какие способно решить». Речь в этих двух случаях идет вовсе не о том, что проблемы подобны теням пред существующих решений (весь контекст указывает на обратное). Нельзя также сказать и то, что в расчет берутся только проблемы. Напротив, в расчет принимается как раз решение, но проблема всегда обретает решение — которого она достойна — лишь в зависимости оттого способа, каким она ставилась, от тех условий, при которых она определилась как проблема, и в зависимости от средств и терминов, какими мы располагаем для ее постановки. В этом смысле история человека — как с теоретической, так и с практической точек зрения — есть история конструирования проблем. Именно здесь человечество творит собственную историю, и осознание такой деятельности подобно обретению свободы. (Верно, что по Бергсону понятие [notion] проблемы уходит своими корнями за пределы истории — в саму жизнь, в жизненный порыв: жизнь, по сути, задает себя в действии, направленном на обход препятствий, на постановку и решение проблем. Конструирование организма подразумевает сразу как постановку проблем, так и их решение.6)
Но как может эта пребывающая в проблеме конструктивная сила согласовываться с нормой истины? И если не так уж сложно определить истину и ложь в отношении решений, чьи проблемы уже поставлены, то, по-видимому, значительно труднее сказать, в чем же состоят истина и ложь, когда их применяют к постановке самих проблем. Именно здесь многие философы начинают ходить по кругу: они осознают необходимость применять проверку на истину и ложь к самим проблемам за пределами решений, но довольствуются лишь тем, что определяют истинность или ложность проблемы возможностью или невозможностью принять ее решение. С другой стороны, крупное достижение Бергсона состоит в попытке изнутри определить, что такое ложь в выражении «ложная проблема». Отсюда вытекает другое правило — дополнительное к предыдущему общему правилу.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВИЛО: Ложные проблемы бывают двух видов: «несуществующие проблемы», определяемые как такие проблемы, в самих терминах которых содержится путаница между «большим» и «меньшим»; и «плохо поставленные проблемы», определяемые так потому, что их термины представляют плохо проанализированные композиты [mixtes].