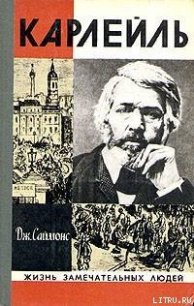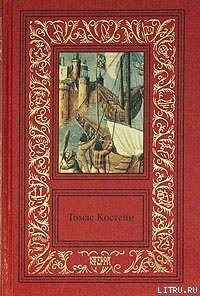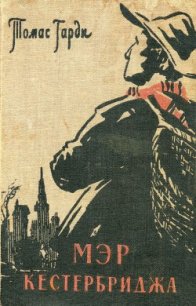Герои, почитание героев и героическое в истории - Карлейль Томас (читаемые книги читать онлайн бесплатно TXT, FB2) 📗
Если же, наконец, это событие мы перенесем в область всемирной истории и взглянем на него глазами не того или другого времени, а времени вообще, то, может быть, придем к заключению, что это событие, в сущности, не имеет особого значения. Если когда-нибудь будет подведен окончательный итог нашей европейской жизни, то все дело французской философии представит одну незаметную дробь или превратится в ничто! Увы, в то время, когда простая история и идеи «презренных евреев», варварская боевая песнь Деворы, вдохновенное пророчество Исаии продолжают жить в течение трех тысяч лет и не утрачивают своего значения, – блестящая «Энциклопедия» в какие-нибудь пятьдесят лет потеряла всякий интерес. Вот факт, – как бы его ни объясняли, – который «энциклопедист» не должен выпускать из виду. Еврейские звуки проникнуты святой мелодией, полны вечного значения и гармонии, – в звуках же энциклопедистов слышался разлад, и бренчание их умолкло, не оставив должного впечатления.
«Возвышенная и глубочайшая задача всемирной и человеческой истории, которой подчинены все другие задачи, – говорит современный мыслитель, – это борьба неверия с верой». Все эпохи, в которых преобладает вера, какой бы формы она ни была, славны, возвышают душу и плодотворны как для современников, так и для потомства. Все же эпохи, напротив, в которых безверие в какой бы то ни было форме торжествует свою победу, исчезают, если они даже сияли обманчивым светом, из глаз потомства, потому что никто не захочет изучать бесплодную науку.
Мирабо48
Пословица говорит: «Строящийся дом не похож на выстроенный дом». Окруженный кучей мусора и извести, лесами, рабочими и целыми облаками пыли, он перед самым внимательным зрителем, среди этой суматохи, обнаруживает только грубые зачатки будущего здания. Как справедливо это относительно всех деяний и фактов нашей жизни, как бы они там ни назывались. Как справедливо это в особенности относительно величайших деяний и величайших фактов, известных нашему миру под именем жизни так называемого оригинального человека!
Подобные люди выкроены не по обыкновенному образцу. Их будущее развитие даже невозможно приблизительно предсказать, хотя, по новизне и редкости предмета, они более других вызывают предсказание. Человек подобного рода, пока он живет на земле, «развивается из ничего в нечто» при самых сложных условиях. Он заимствует, постоянно меняя, материал для своего здания, даже самый план его, из области случая, так сказать, из области свободной воли. Этим способом он созидает свою жизнь, представляя не только для постороннего зрителя, но и для самого себя – загадку и задачу. Поэтому-то критика в этом деле и выказывает полнейшее незнание и непонимание.
Начало и развитие такой жизни походит на ларчик рыбака в арабской сказке. Неопределенный огонек показывается здесь и там, виднеются проблески гения, об окончательном образе которого не может судить ни рыбак, ни другой какой-либо человек. А между тем люди судят и заранее высказывают решения, и нетрудно себе представить, как справедливы бывают эти решения. «Взгляните на публику в театре, – говорит один из писателей, – здесь жизнь человека проходит перед ней в пять часов. Она разыгрывается на открытой сцене, при зажженных лампах, обставленная всевозможным искусством, чтоб уяснить ее смысл. А между тем, когда занавес опустится, послушайте, как критикующая публика отзывается об этом представлении». Но теперь вообразите себе, что драма длится семьдесят лет и не только стремится к ясности, но разыгрывается с препятствиями, в глубоком, непроглядном мраке, а мир или критикующая публика, занятые другим делом, только урывками смотрят на сцену. Горе тому, ответим мы, кто не может апеллировать на приговор мира. Он потерянный человек, его присуждают к тяжкому наказанию, а если и случится оправдательный приговор, то его постигает еще более тяжкое наказание: он делается пошлым, поверхностным адвокатом собственных интересов или совершенным шарлатаном, что составляет одно из тяжких наказаний в мире.
Но дальше представьте себе, что этот человек был оригинальным человеком и его жизненную драму нельзя было измерить тремя единствами, а следовало применить к ней собственное правило. Кроме того, не забудьте, что события, в которых он принимал участие, были события грандиозные и потрясающие, из всех его судей нет ни одного, который не имел бы основания любить или ненавидеть его. Но к сожалению, мир судит поспешно и вследствие этого ложно, а естественный мрак, окружающий человека, и случайные препятствия еще более затемняют дело. Поэтому угрюмый моралист довольно разумно заметил: «Чтоб судить об оригинальном современном человеке, нужно окончательно отрешиться от суждений мира, потому что мир не прав не только в этом деле, но не может быть прав вообще во всяком подобном деле».
Мы утешаем себя тем, что мир, при обсуждении подобных дел, понемногу начинает вступать на верный путь, а постоянный анализ и проверка предшествуют этому обсуждению. Ибо прежде всего мир любит своих оригинальных людей и помнит их долгое время, нередко целые тысячелетия. Если забыть их, то что же тогда остается помнить? Могущество мира заключается в его оригинальных людях; благодаря их деяниям он мир, а не пустыня. Память и история людей, живших в нем, – вот сумма его могущества, его священного вечного достояния, благодаря которым он держится и ведет свой корабль чрез неведомые еще пространства времени. Знание, искусства, богатство мира неразрывно связаны с человеческим существованием. Да разве самая наука, в ее любопытнейших формах, не есть собственно биография; разве она не история деяний, совершенных, по милости неба, оригинальным человеком? Шар и цилиндр49 – вот памятник и краткая история человека Архимеда, история, которая, вероятно, забудется только тогда, когда исчезнет и самый мир. О поэтах и их созданиях, о любви к ним мира мы, в наше оригинальное относительно искусства время, скажем немного или вовсе умолчим. Величайший из современных поэтов уже сказал: «Кто, как не поэт, впервые создал нам богов, низвел их на землю и нас возвысил до них?»
Другая, более глубокая заметка, также заслуживающая нашего внимания, принадлежит Жану Полю. По его словам, «в искусстве или в том, что мы называем моралью, еще прежде учения Аристотеля, были Гомер или Гомеры с их героическими подвигами». Другими словами, оригинальный человек – это истинный создатель морали. Из его произведений немало заимствовано правил, о которых написаны целые книги и системы. Он, собственно, составляет «суть дела», – все следующее за ним только болтовня о деле, лучшее или худшее толкование его, более или менее утомительное и логическое рассуждение о нем. Заметка Жана Поля, если хорошенько вникнуть в нее, имеет, по нашему мнению, большое значение. Если б кто-нибудь вздумал создать новую систему морали, – предприятие, впрочем, в наше время ничего не обещающее, – то ни одна заметка не могла бы служить краеугольным камнем этой системе… Моисеевы заповеди были начертаны на простом небольшом камне и не снабжены никакой логикой.
Мы же, напротив, обильно снабжены логикой, – у нас есть системы морали, профессора нравственной философии и масса теорий, которые, может быть, для тех, кому они нравятся, весьма полезны. Но разве наблюдательному глазу не ясно, что правила человеческой жизни основываются не на логике? Как в настоящее время, так и издревле человек делает то, к чему он призван. Призвание это не может быть доказано логикой, потому что оно подтверждается другим и лучшим путем, именно опытом, или, другими словами, испытующим, или, как мы называем его, оригинальным человеком. Этот человек уже кое-что сделал, и мы видели, что дело его полезно и разумно, так что мы единожды навсегда признаем его таковым. Но довольно об этом.
Тот, вероятно, был сангвиником, кто обращался к Французской революции за новыми правилами жизни или искал в ней творцов и примеров нравственности. Никогда ни одно величайшее дело не было исполнено такими маленькими людьми. Двадцать пять миллионов людей, говорят строгие критики, были оторваны от занятий, привычек, комфорта и брошены на новую, громадную арену «санкюлотизма», чтоб показать, какая оригинальность заключается в них. Они в изобилии отличились фанфаронадой, кривляньем, горячкой, брожением героического отчаяния, но поразительно мало выказали того, что называется оригинальностью, творчеством, природным материалом или характером. Их героическое отчаяние, каким оно было, мы будем чтить и уважать, как новое доказательство человечности человека. Но остальное все заключалось в федерациях, празднествах братства, «статуе природы, источающей воду из своих двух сосцов» и возвышенных депутатов, пьющих ее из железной чаши. Вес и мера были изменены, месяцы получили названия Плювиоз, Термидор, Мессидор. Мадам Моро и другие, гордо разъезжая по улицам, олицетворяли собою богинь разума. А когда большинство из них было гильотинировано, Магомет-Робеспьер, с букетом в руках и в новых черных панталонах, произнес перед Тюильрийским дворцом одну из самых напыщенных речей о высшем бытии и немало сжег эмблематического картонного хлама. Кроме этого, еще много других вещей затевали и совершали эти двадцать пять миллионов, но, за исключением героического отчаяния, которое, впрочем, в сравнении с отчаянием голландцев не казалось чудом, – все подвиги их и ограничились этим. Арена санкюлотизма была оригинальной ареной, открытой человеку еще за тысячу лет тому назад, но для них она, против ожидания, сделалась обыкновенным поприщем.