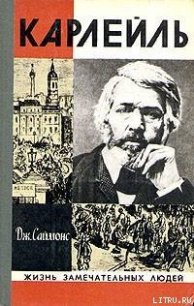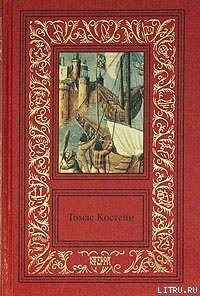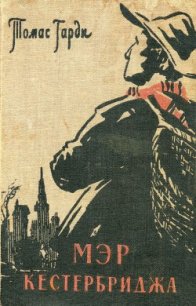Герои, почитание героев и героическое в истории - Карлейль Томас (читаемые книги читать онлайн бесплатно TXT, FB2) 📗
Грустно и страшно! Но вместо того чтоб предаваться плачу или проклятию, мы лучше предпочтем более удобный метод, именно, не нарушая нашего спокойствия, постараемся, по возможности, определить значение этого явления. По нашему мнению, все это явление объясняется вышеприведенным фактом, что Дидро был истый полемик в механическое время. Попусту тратя слова на бесплодные, чудовищные и непрочные, как хаос, выводы, которые они хотели исчерпать, щеголяя доказательствами. Над ними не знаешь – плакать или смеяться теперь, – Дидро и его секта выяснили, что во французской философской системе (которую мы, за неимением другого именования, назвали механической) нет места для божества. Для того, кто «разум» или силу веры считает тождественными с логикой, нет видимого доказательства присутствия божества в мире. Такому человеку не остается ничего более, – если ум в нем развит только наполовину (встречается в большинстве случаев), – как самым жалким образом лавировать целую жизнь между двумя мнениями. А если он вполне обладает умом, бросить якорь на скале или болоте атеизма и передавать другим, что место это весьма недурно для якорной стоянки…
По нашему мнению, из атеизма Дидро вытекает тот вывод, что все умозрения, называемые нами естественной теологией и силящиеся доказать начало всякой веры другой верой, более древней, чем самое начало, бесплодны, недействительны и невозможны, вследствие чего их и следует совершенно устранить. Конечных причин человек, уже по самому существу своему, не может доказать. Он знает их, – если предположить, что он знает их, – не путем логического света, но путем более неизмеримого, высшего света внутреннего созерцания. Последний (по милости неба) никогда долго не затемняется в человеческой душе и присущ нам (под именем веры) более четырех тысяч лет в исторической или сознательной форме. Для всех впечатлительных людей любимым занятием может быть: наблюдать, как разнообразны формы, живое относится к безжизненному, разумное к неразумному и то, что мы называем природой, не дикий фанатизм хаоса, а чудесное бытие и действительность. Если, кроме того, мыслящий человек в этих признаках обретет создателя, то тем скорее он увидит, что более ясное доказательство находится ближе к нему, в его собственной голове, отыскивающей подобное доказательство…
Ключ всей умственной деятельности Дидро нужно искать в неизбежных для него условиях, т. е. в веке, в котором он жил, и в тогдашнем всеобщем образе мыслей. В силу этих же условий мы извиняем в нем многое ложное и извращенное. Кроме скудного света кабинетной логики, Дидро не знал никакой путеводной звезды. Что о «высшем существе нельзя говорить словами» – была истина, об этом он даже и не воображал. Все, чего он не мог обсудить, чего, так сказать, он не мог измерить и взвесить, унести с собой, съесть и насладиться им, то для него как бы не существовало. Он целую жизнь прожил в «тонкой коре сознательного». Громадная, неизмеримая область бессознательного, в которой заключается первое и от которого оно получает значение, была для него чужда в какой бы то ни было форме. Поэтому святыня человечества была постоянно закрыта для этого человека. Где руке его нечего было ощупать, там кончался для него мир. В таких узких пределах он должен был жить и трудиться. Вследствие этого и самый труд его принимал искаженный и неправильный вид: кто тем или другим путем не признает божественной мировой идеи, лежащей в основании внешних явлений, не может иметь верного понимания, и весь умственный труд его несовершенен и ложен.
Поэтому-то достойно сожаления понятие, которое Дидро составил себе о человеческом бытии, над обязанностями, отношениями и способностями которого он так усердно размышлял. При каждом его выводе мы натыкаемся на тот же факт его умственного механического образования – и именно в связи с другим фактом, делающим ему честь, что он не останавливался на полумерах, но настойчиво добивался результата и крепко держался его. На этом основании мы не можем назвать его «скептиком», но он вполне заслуживает имя «отрицателя». О нем можно сказать, что он отрицал присутствие малейшей искры святыни в человеке и мироздании и, следуя этой странной основе, мыслил и жил. В нем мы видим в высшей степени крайнего человека, руководимого умственной верой, которой когда-либо следовал мыслящий человек. Веру во всех ее известных формах и значении он искоренил в себе с таким усердием, которое не под силу ни одному человеку. Он верит, что удовольствие приятно, лжи верить нельзя, и тем заканчивается его исповедание, далее этого не идет у него даже самое воображение.
В последовательном мыслителе все возможные умственные извращения заключаются в то же время в грубейшем извращении, т. е. в атеизме, распространяющем приверженцев. Остальные недостатки, в какой бы степени они ни были, уже не могут нас поразить. Дидро обладал этим извращением во всех формах и степенях. Можно сказать, французский философ (по его словам, он против воли держался еще многого, что, по его теории, должно бы было оставаться ему чуждым) создал мировую систему, в сравнении с которой все, что в этом роде сделано восточными муллами и бонзами, крайне несостоятельно и скудно. Опуская его беспримерное понятие о космогонии и физиологии, мы только бросим взгляд на его более мягкое, нравственное учение и здесь коснемся одного пункта, именно взаимного отношения людей – брака.
Дидро держится того убеждения, что в браке, как бы ни совершали его свято, заключается ошибка, сводящая все его значение к нулю. Это, по его мнению, самоубийственный договор, уничтожающийся уже при самом заключении: «Ты клянешься, – повторяет он два или три раза, как будто придает особый вес этому аргументу, – ты клянешься в вечной верности, стоя под скалою, которая в этот же момент разрушается». Ты прав, Дени, скала разрушается, все вещи изменяются, а человек изменяется еще скорее остальных предметов. Но под этим хранится еще неизменчивое, возвышенное и доброе начало, проникающее судьбу и действия человека и составляющее тоже истину, и трудно ожидать, чтоб механически философ сумел перемолоть ее в своей логической мельнице. Человек изменяется, и вследствие этого возникает вопрос: разумно ли с его стороны следовать слепо этой страсти к изменению, да и возможно ли это ему?
Между дуализмами вполне дуалистической натуры человека, по нашему мнению, выдается в особенности тот дуализм, что, вместе с постоянным стремлением к изменению, он наделен не меньшим стремлением противиться этому изменению. Если бы человеку суждено было только изменяться, то он, не говоря уже о браке, перестал бы пахать свои поля и до наступления осени потерял бы всякую охоту снимать жатву. Он возвратился бы тогда к кочующей жизни и поставил бы свой дом на колеса. Да и тут ему пришлось бы сдерживать свою страсть к переменам, потому что от беспрерывных передвижений его скот, не имея времени питаться травой, погиб бы с голоду.
О, Дени, что бредишь ты во сне! Каким образом человеку в этом мире постоянных отливов и приливов упрочить свой фундамент, как не тем единственно, что, заручившись вперед судьбой, при том или другом важном поступке в жизни, торжественно отказаться от перемены, волю подчинить неволе и один раз навсегда сказать: прочь дальнейшее сомнение! Да разве бедняк ремесленник, какой-нибудь чулочник, на станке которого ты работаешь в качестве дилетанта, не должен был сделать то же, когда подписывал свой контракт с хозяином? Глупец, наделенный всевозможными влечениями, охотно, может быть, сделавшись королем или императором, клянется (под страхом наказания) в вечной верности чулочному производству! А между тем без этого не были бы возможны хорошие ремесленники, а выходили бы жалкие недоучки, не могущие пропитать себя и годные только на пищу виселице. И какое чувство жило в той древней, благочестивой и мудрой душе, которая брак сделала таинством? Об этом грядущие Дени Дидро будут размышлять целые века и не разрешат вопроса.
И действительно, трудно вообразить себе большую либеральность, чем либеральность нашего друга Дидро в роли магистра нравов. Нередко бедный философ чувствует себя способным в век такой «спартанской» суровости нравов войти в непотребный дом и здесь воскликнуть: «Macte virtute! Замечательно!» Пусть следуют туда за ним те, которых интересуют эти вещи, мы же, имея на руках другое дело, пожелаем ему счастливого пути или, скорее, счастливого возвращения. О неделикатности и непристойности Дидро нам остается сказать здесь немного. Дидро не из тех людей, которых мы называем неделикатными и непристойными, но он циничен, скандален и чужд всякого стыда. Объяснять с лирическим бешенством, что это несправедливо, или со спокойствием историка настаивать на этом и тем приводить в ярость какое-нибудь чувствительное животное, считающее это обвинение преувеличенным, мы считаем излишним. Единственный, естественный исторический вопрос: «отчего происходит это?» – возможен только в этом деле. Что хотел доказать этот человек, не лишенный в другом отношении возвышенного ума, душевной теплоты, гуманности и необыкновенного остроумия? Для нас это только другая иллюстрация смелого, крайне логичного и последовательного механического философа. Она вполне согласуется с теорией Дидро – ни в человеке, ни в жизни нет ничего святого, химеры – не что иное, как химеры. Каким образом человек, – для которого все то, о чем не говорят в клубах, как бы не существует, – может иметь малейшее понятие о глубине, значении и божественности молчания, святости «тайн», известных всем?