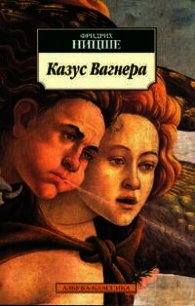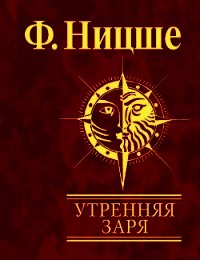Ницше contra Вагнер - Ницше Фридрих Вильгельм (читаем книги онлайн бесплатно полностью TXT) 📗
Как я освободился от Вагнера
1{20}
Ещё летом 1876 года, в разгар первого фестиваля,{21} в душе своей я расстался с Вагнером. Я не выношу двусмысленностей; с тех пор, как Вагнер оказался в Германии, шаг за шагом он всё более склонялся ко всему тому, что я презираю — даже к антисемитизму…{22} Тогда и в самом деле был лучший момент, чтобы расстаться: подтверждение этому я получил почти сразу же. Рихард Вагнер, казавшийся триумфатором, на деле же прогнивший отчаянный декадент, внезапно, беспомощно и сломленно пал ниц перед христианским крестом… Неужели же ни у одного немца не нашлось тогда глаз для этого зрелища, не нашлось сочувствия к нему?.. Неужели я был единственным, кто страдал от него? — Но полно об этом, мне самому это неожиданное событие, словно молния, дало со всей ясностью увидеть, что за место я покинул, а также почувствовать дрожь, какую испытывает каждый, кто, не ведая того, подвергался чудовищной опасности. Меня трясло, когда я, уже в одиночестве, продолжил свой путь; вскоре после этого я оказался больным, больше, чем больным — усталым; усталым от невыносимого разочарования во всём, что только осталось в мире воодушевляющего для нас, современных людей; усталым от растраченных там и сям впустую сил, трудов, надежд, юности, любви; усталым от всей этой идеалистической лживости и изнеженности совести, которая здесь снова одержала верх над одним из храбрейших; усталым, наконец, и не в последнюю очередь, от тоски беспощадного подозрения, что отныне я приговорён недоверять глубже, презирать глубже, быть одиноким глубже, чем это когда-либо бывало со мной. Потому что у меня не было никого, кроме Рихарда Вагнера… Я всегда был приговорён к немцам…{23}
2{24}
Тогда-то, оставшись в одиночестве и испытывая болезненное недоверие к самому себе, я, не без ожесточения, выступил против себя, взяв сторону всего, что именно мне было больно и трудно: так я снова нашёл путь к тому отважному пессимизму, являющемуся противоположностью всякой идеалистической лживости, а заодно, как мне представляется, путь к себе — к моей задаче… То потаённое и властное нечто, которому мы долго не можем найти никакого имени, покуда оно наконец не проявит себя нашей задачей, — этот тиран в нас сводит с нами страшные счёты за всякую нашу попытку уклониться или ускользнуть от него, за каждое преждевременно принятое решение, за то, что мы поставили себя на одну доску с теми, кто не одной крови с нами, за все наши занятия, сколь бы почтенными они ни были, коль скоро из-за них мы избегаем своего главного дела, — и даже за каждую добродетель, которая пытается защитить нас от жестокого суда той ответственности, которую мы несём перед самими собой. Болезнь всякий раз является ответом, когда мы пытаемся усомниться в своём праве на собственную задачу, когда мы начинаем в чём-то облегчать себе жизнь. Удивительно и в то же время страшно! За то, что́ облегчает нам жизнь, нас ждёт самая жестокая расплата! Если же вслед за этим мы захотим снова вернуться к здоровью, нам не остаётся иного выбора: мы должны взвалить на себя такую ношу, какую не взваливали ещё никогда прежде…
Слово берёт психолог
1{25}
Чем более психолог — прирождённый, неизбежный психолог и разгадчик душ — начинает заниматься выдающимися случаями и людьми, тем более грозит ему опасность задохнуться от сострадания. Ему нужна суровость и весёлость — больше, чем кому-либо другому. Порча и гибель высших людей как раз является правилом: ужасно иметь такое правило постоянно перед глазами. Многообразные мучения психолога, который открыл эту гибель, который раз открыл и затем почти беспрерывно снова открывает в объёме всей истории эту общую внутреннюю «неисцелимость» высшего человека, это вечное «слишком поздно!» во всех смыслах, могут, пожалуй, в один прекрасный день сами сделаться причиной погибели… Почти у каждого психолога замечается предательское пристрастие к общению с заурядными и уравновешенными людьми: этим выдаёт себя то, что он постоянно нуждается в исцелении, что ему нужно своего рода забвение и бегство от того, чем отягощают его совесть его прозрения и вскрытия, его ремесло. Ему слишком знаком страх перед собственной памятью. Он легко становится безгласным перед суждением других: с бесстрастным лицом внимает он, как поклоняются, изумляются, любят, прославляют там, где он видел, — или он даже скрывает своё безгласие, нарочно соглашаясь с каким-нибудь поверхностным мнением. Быть может, парадоксальность его положения доходит до такой ужасающей степени, что как раз там, где он научился великому состраданию наряду с великим презрением, «образованные» со своей стороны учатся великому почитанию… И кто знает, не случалось ли во всех значительных случаях именно и только это, — что поклонялись богу, а бог был лишь бедным жертвенным животным… Успех всегда был величайшим лжецом, — а ведь и творение, и деяние есть успех… Великий государственный муж, завоеватель, первооткрыватель замаскирован, скрыт в своих творениях до неузнаваемости; произведение, созданное художником, философом, только и создаёт того, кто его создал, кто должен был его создать… «Великие люди» в том виде, как их чтут, представляют собою после этого ничтожные, слабенькие выдумки, — в мире исторических ценностей господствует фальшивомонетничество…
2{26}
Эти великие поэты, например эти Байрон, Мюссе, По, Леопарди, Клейст, Гоголь — я не отваживаюсь назвать гораздо более великие имена, но подразумеваю их, — если взять их такими, каковы они на самом деле, какими они должны быть: люди минуты, чувственные, абсурдные, пятиликие, легкомысленные и взбалмошные в своём недоверии и в доверии; с душами, в которых обыкновенно надо скрывать какую-нибудь трещину; зачастую мстящие своими произведениями за внутреннюю загаженность, зачастую ищущие в своих взлётах забвения от слишком верной памяти, идеалисты, одной ногой завязшие в трясине — каким мучением являются эти великие художники и вообще так называемые высшие люди для того, кто только что разгадал их… Мы все заступники посредственного… Понятно, что именно в женщине, отличающейся ясновидением в мире страданий и, к сожалению, одержимой такой страстью помогать и спасать, которая далеко превосходит её силы, вызывают они так легко те вспышки безграничного сострадания, которые толпа, и прежде всего почитающая толпа снабжает в изобилии любопытными и самодовольными толкованиями… Это сострадание регулярно обманывается в своей силе: женщине хочется верить, что любовь может всё, — таково её своеверие. Ах, сердцевед прозревает, как бедна, беспомощна, притязательна, склонна к ошибкам даже самая сильная, самая глубокая любовь — как она скорее губит, чем спасает…
3{27}
Духовное высокомерие и брезгливость всякого человека, который глубоко страдал — то, насколько глубоко могут страдать люди, почти определяет их иерархию, — его ужасающая, насквозь пропитывающая и окрашивающая его уверенность, что благодаря своему страданию он знает больше, чем могут знать самые умнейшие и мудрейшие, что он узнал и даже освоился во многих далёких и ужасающих мирах, о которых «вы ничего не знаете!»… это духовное безмолвное высокомерие, эта гордость избранника познания, «посвящённого», почти принесённого в жертву нуждается во всех видах переодевания, чтобы оградить себя от прикосновения назойливых и сострадательных рук и вообще от всего, что не равно ему по страданию. Глубокое страдание облагораживает; оно обособляет. — Одной из самых утончённых форм переодевания является эпикуреизм и связанная с ним выставляемая напоказ храбрость вкуса, которая легко относится к страданию и выставляет себя на защиту от всего печального и глубокого. Есть «весёлые люди», пользующиеся весёлостью для того, чтобы под её прикрытием оставаться непонятыми: они хотят, чтобы их не поняли. Есть «учёные умы», пользующиеся наукой, потому что она придаёт бодрый вид и потому что научность позволяет заключить, что этот человек поверхностен: они хотят спровоцировать на такое ложное заключение… Есть свободные дерзкие умы, которые хотят скрыть и отрицать, что по сути у них разбитое, неисцелимое сердце — таков случай Гамлета: и тогда само шутовство может служить маской злосчастному, слишком несомненному знанию.