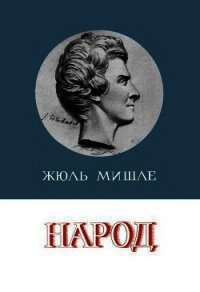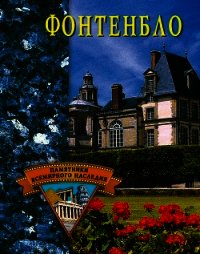Ведьма - Мишле Жюль (версия книг .txt) 📗
В тот момент, когда толпа, слившись в головокружительной пляске, чувствовала себя единым телом как под влиянием близости женщин, так и под влиянием смутного чувства братства, она возвращалась к мессе...
Распростершись во прах, всем своим униженным телом, со своими пышными черными шелковистыми волосами она (гордая Прозерпина) отдавала себя.
Впоследствии в этой фазе праздника творились всякие нескромности. Но тогда среди невзгод XIV в., в страшные времена чумы и голода, в эпоху Жакерии и гнусных разбойничьих набегов молодецких компаний, действие этого обряда на находившуюся в опасности толпу было более чем серьезное. Если бы собрание застигли, то ему пришлось бы плохо. В особенности же рисковала ведьма, и в этой смелой позе она, несомненно, отдавала свою жизнь. И это тем более, что она подвергалась целому аду мук, таких мук, которые трудно описать. Ее рвали щипцами, ей ломали кости, вырывали груди, медленно сдирали кожу (как поступили с колдуном – кагорским епископом), ее медленно жарили на углях: ее ожидала медленная агония.
Все собравшиеся были, несомненно, взволнованы, когда над самозабвенной, униженной женщиной творили молитву и приносили жертву во имя жатвы. Духу земли, позволяющему хлебу произрастать, приносили в дар хлеб. Птицы, поднимаясь ввысь (очевидно, с груди женщины), несли богу свободы вздохи и обеты крепостного. О чем они просили? Чтобы мы, их далекие потомки, стали свободными [4].

И вот толпа сбросила с себя иго, почувствовала в себе уверенность. Крепостной, на мгновение свободный, является королем на несколько часов. Немного осталось времени. Уже меняется окраска неба, и звезды закатываются. Еще одно мгновение, и суровая заря вернет его в рабство, под вражий глаз, под тень замка, под тень церкви, к однообразному труду, к вечной скуке, регулируемой звоном двух колоколов, из которых один говорит «всегда», другой – «никогда». И кажется, будто каждый из них, кроткий и угрюмый, звучит в нем самом.
Пусть же у него будет по крайней мере этот короткий миг. Пусть каждый из обойденных будет богат хоть раз и найдет здесь осуществление своих грез. Нет такого несчастного, такого истерзанного сердца, которое не отдавалось бы порой мечтам, безумному желанию, которое не говорило бы: «О, если бы это случилось».
Мы уже упомянули, что единственные подробные описания шабаша, дошедшие до нас, относятся к более поздней эпохе, к временам мира и счастья, к последним годам Генриха IV, когда Франция снова была в расцвете. То были годы благоденствия и изобилия, совершенно не похожие на темную годину, когда процветал шабаш.
Ланкр и другие писатели изо всех сил стараются, чтобы мы представляли себе третий акт похожим на кермесе Рубенса, на беспорядочную оргию, на большой бал наизнанку, допускающий всякое половое общение, в особенности между близкими родственниками. Если верить этим авторам, стремящимся только к тому, чтобы вызвать ужас, заставить трепетать от страха, то главной целью шабаша, специальной доктриной Сатаны был инцест: на этих огромных сборищах (иногда участвовало 12 000 человек) самые чудовищные акты совершались открыто, на виду у всех.
Этому трудно поверить. Те же авторы приводят факты, явно противоречащие такому цинизму. Они утверждают, что на шабаш приходили парами, что на пиршестве сидели парами, что если кто появлялся в одиночку, то к нему приставляли юного дьявола в качестве спутника и хозяина. Они сообщают, что ревнивые влюбленные не боялись приходить туда и приводить своих любопытных красавиц.
Далее видно, что народ посещал шабаш целыми семьями, с детьми. Их отсылали только на время первого акта, тогда как они могли участвовать в пиршестве, при службе и т. д. Это доказывает, что на шабаше царило некоторое приличие. Впрочем, сцена разделялась на две части. Семейные оставались на ярко освещенной пустоши. Только за фантастической завесой смоляного дыма начинались более мрачные пространства, где можно было уединиться.
Несмотря на свою враждебную позицию, судьи – инквизиторы вынуждены признаться, что на шабаше царил дух кротости и мира. Ни одна из трех отталкивающих черт, характерных для пиршеств знати, здесь не повторялась. Ни шпаг, ни дуэлей, ни столов, забрызганных кровью! Никаких учтивых вероломств с целью унизить лучшего друга. Что бы там ни говорили, нечистое братство храмовников здесь было и не нужно и не известно: на шабаше женщина была всем.
Что же касается инцеста, то необходимо оговориться. Всякие половые сношения между родственниками, даже такие, которые теперь считаются самыми дозволенными, тогда признавались преступными. Современный закон, воплощение чуткости, понимает сердце человека и заботится о благе семьи. Он разрешает вдовцу жениться на сестре покойной жены: можно ли найти лучшую мать для ее детей? Он позволяет дяде взять под свою защиту племянницу, вступив с ней в брак. В особенности же он разрешает жениться на двоюродной сестре, которую будущий муж знает, иногда любил с детства, которая была подругой его первых игр и к которой хорошо относится и его мать, заранее отдавшая ей свое сердце.
В средние века все это считалось инцестом.
Жениться на двоюродной сестре даже в шестом поколении считалось делом чудовищным. В своей деревне найти жену было невозможно, так как родство воздвигало столько препятствий. Надо было искать в другом месте, подальше. Отдельные деревни тогда мало общались, люди не знали друг друга, ненавидели своих соседей. В праздничные дни деревни неизвестно, во имя чего устраивали кулачные бои. Искать себе невесту в деревне, с которой дрались, куда явиться было опасно, представляло немалый риск.
Другое затруднение! Сеньор молодого крепостного запрещал ему брать жену из соседнего поместья. В противном случае он становился бы крепостным барина жены, был бы для того потерян.
Выходило таким образом, что священник запрещал жениться на двоюродной сестре, а сеньор на чужой. Поэтому многие вовсе не вступали в брак.
В итоге случилось именно то, чему хотели помешать. На шабаше торжествовали естественные склонности. Молодой парень находил здесь ту, которую знал давно, давно любил: когда ему было десять лет, его уже называли ее маленьким мужем. Он предпочитал именно ее и мало думал о канонических запрещениях.
Кто хорошо знаком со строем средневековой семьи, тот не поверит велеречивым обвинениям, свидетельствующим о беспорядочном смешении, увлекающем будто толпу на шабаше. Напротив, он не сомневается, что каждая небольшая группа, замкнутая и сосредоточенная в себе, ни за что не впустит к себе чужого.
Крепостной, не очень ревнивый (по отношению к близким), но бедный и несчастный, страшно боится ухудшить свое положение, производя на свет детей, которых не будет в состоянии прокормить. Священник, феодал хотели бы увеличить число крепостных, хотели бы, чтобы крестьянка всегда была беременна: на эту тему говорились самые странные проповеди, произносились порой страшные упреки и угрозы. Тем упрямее и благоразумнее был крестьянин. Бедная женщина, которая не могла рожать детей жизнеспособных, которая рожала только для того, чтобы плакать, боялась беременности. Она осмеливалась посещать ночные празднества только потому, что ее настойчиво успокаивали уверением: «Никогда женщина не возвращается с них беременной» [5].
Женщины приходили на шабаш, привлеченные пирушкой, пляской, светом, развлечением, а не мыслью о плотском наслаждении. Последнее доставляло одним только страдание. Другие испытывали отвращение к суровому очищению, следовавшему за любовью с целью ее сделать бесплодной. Не беда. Они готовы были подчиниться всему, лишь бы только не увеличить нужду, не родить несчастного, не дать сеньору нового крепостного.
4
Это приношение хлеба и птиц свойственно именно Франции. В Лотарингии и в Германии в жертву приносили черных животных: черную кошку, черного козла, черного быка.
5
Боге, Ланкр и другие писатели сходятся в этом пункте. Грубое противоречие, приписываемое Сатане крепостным, крестьянином, бедняком под влиянием собственных желаний. Сатана заставляет созревать жатву, но делает женщину бесплодной. Побольше хлеба, поменьше детей!