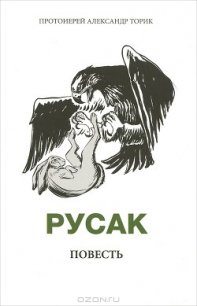Флавиан - Протоиерей (Торик) Александр Борисович (е книги .TXT) 📗
— …и вернии в любви пребудут Ему: яко благодать и милость в преподобных Его, и посещение во избранных Его! — прогремел высоко под куполом мощный голос Семёна, и возникшая за этим тишина, словно ознаменовала застывший благоговейно мир, услышавший глас Самого Бога.
— Рцем вси от всея души, и от всего помышления нашего рцем! — раздался из алтаря голос Флавиана. Царские врата затворились.
— Рцем — по церковному значит — скажем! — прошептала мне на ухо, опытная в богослужениях Клавдия Ивановна. Я благодарно кивнул.
— Господи, помилуй! — с готовностью отозвался хор.
— Господи Вседержителю, Боже отец наших, молим Ти ся, услыши и помилуй! — Флавиан чётко и внятно проговаривал каждое слово, и оно входило в твоё сознание, отзывалось в сердце и становилось, как бы уже твоим собственным.
— Господи, помилуй! — вместе с хором повторяло сердце.
— Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй!
— Господи помилуй, Господи помилуй, Господи поми-и-луй! — словно бы разбегаясь и взлетая прозвучал ответ хора.
— Еще молимся, о Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриархе Алексии, и о Господине нашем…
Я, тем временем, несколько отключился от происходящего вокруг, и, как-бы сквозь сон, слышал как Флавиан призывает молиться — О богохранимей стране нашей… о блаженных и приснопамятных создателях святаго храма сего… о милости, жизни, здравии, спасении… о плодоносящих и добродеющих… — и хор преданно поддерживает его молитву троекратным — Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй!
Слушая, как отзывается где-то в глубине моего сердца это, троекратно повторяемое призывание милости Господней, я вдруг вспомнил одну странную старушку, которой помог как-то на заре моей студенческой молодости. Было это так. Я приехал на электричке на одну подмосковную, недалёкую от города станцию праздновать с друзьями Новый Год и сразу же заблудился в частых извилистых улочках дачного посёлка, перетекающего в деревню. Повернув в очередной раз за очередной поворот, я увидел какую-то странную фигурку, копошащуюся в снегу придорожной канавы и, что-то причитающей. Приняв, поначалу, эту фигуру, по естественной логике собственного, слегка уже навеселе, состояния и наступающего праздника, за местного пьянчужку, я намеревался было пройти мимо — сам напился — сам вылезай! Но вдруг отдельные слова жалостного причитания коснулись моего слуха и я, с удивлением распознал — Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй…
Я заинтересованно подошёл поближе и обнаружил странного вида старушонку, как капуста растопыренную множеством одёжек, пытающуюся вытащить из канавы съехавшие туда детские санки с привязанным к ним большим мешком картошки. Напрягая свои дряхлые силёнки она охала, вздыхала и беспрестанно повторяла своё — «Господи, помилуй».
— Бабуль, посторонись, дай-ка я сам — не без труда вытащив на дорожку санки с тяжеленным мешком и, слегка запыхавшись, я спросил — Бабуль, дом-то твой далеко?
— Недалеко, сыночек миленький, спаси тя Христос, недалеко! Вон, за той берёзкою налево, а там четвёртый дом по правой стороне, спаси тебя, Господи, родненький!
Я дотянул салазки до бабулькиной калитки, и, пропустив её вперёд открывать двери, которые оказались не запертыми а просто припёртыми палочкой, втащил мешок в сени.
— Бабушка! Покажи, куда поставить, давай в дом занесу, а то помёрзнет в сенях!
— Спаси тя Христос, голубчик, за заботу о старухе никчёмной, огради от зла и помилуй! Сюда, миленький, сюда, Лёшенька, в закуточек за умывальничком!
В тот момент, ворочая тяжёлый мешок, я и не «въехал» сразу, что она назвала меня по имени, хотя я ей не представлялся. Поставив мешок в уголке между печкой и оловянным старым умывальником, висящим над, видавшим виды, эмалировнным тазиком, стоящим на колченогой табуретке, я, разогнувшись, огляделся.
Домик, а точнее сказать — избушка была маленькой, приблизительно три на четыре метра, с низким закопчённым потолком и, занимающей почти половину пространства, слегка растрескавшейся русской печкой. Кроме печки, в комнате были: столик со стоящими на нём аллюминиевыми кружкой, миской и чайником, кривенький обшарпанный стульчик, большой сундук, застеленный какой-то немыслимой драненькой войлочной кошмой, с лежащими на ней, таким же драненьким тулупчиком и свёртком из тряпок, вместо подушки. Кровати в комнате не было! Единственной мебелью, кроме вышеупомянутого, была небольшая фанерная вешалка, крашеная «серебрянкой», с висящими на ней порыжело-чёрными одежонками. Зато, в правом углу, сверкая позолотой и мерцая лампадками, находился целый иконостас из множества разновеликих, но, явно старинных икон, между которыми висели и стояли старинные фотографии каких-то вельмож и священников.
— Ого-го! Бабушка! Да как же ты не боишься дом на палочку закрывать? Это ведь сколько ж денег, у тебя тут висит, не дай Бог, воры влезут, ограбят ведь!
— А, Бог и не даст, миленький! Не бойся! Кого Он сюда не пустит, тот и не войдёт, а уж коли войдёт — на то Божья воля! А, висят здесь не деньги, сыночек, а святые образа — чудотворные святыни, Лёшенька… придёт время — поймёшь, ангел мой!
В это время брякнули со скрипом жестяные часу с кукушкой, я глянул на них.
— Ой, бабулечка, побегу я, мне ещё дачу друзей успеть найти надо до Нового года, заблудился я тут у вас!
— Найдёшь, родненький, Ангел-Хранитель приведёт, подожди, голубок, мгновеньице, я тебя Иерусалимским Крестиком благословлю!
Она скинула свою кацавейку, вязанную драненькую безрукавку и протёртый, некогда пуховый, платок, и оказалась в странной одежонке, вроде чёрного капюшона с передником и погончиками, расшитых белыми херувимчиками, крестами и славянскими буквами. Бочком проковыляв к иконам, странная старушка взяла откуда-то среди них небольшое распятие из тёмного, полированного дерева, и, повернувшись ко мне, широким взмахом перекрестила меня этим распятием, проговорив что-то про Отца, Сына и Святого Духа. Затем, устремив на меня взор, неожиданно ярких, светящихся радостью глаз, сказала — Ну, иди сыночек, буду молиться за тебя, и Алексея Божьего человека упрошу молиться, да спасёт тебя Господь за твоё доброе сердечко, иди милый!
Выйдя от старушки, не успев ещё переварить своими, затуманенными хмельком мозгами, увиденное, я уже через пять минут наткнулся на, указанную мне друзьями как опознавательный знак калитку, со столбами вырезанными в виде сказочных богатырей. А, ещё через пять минут, я уже допивал вторую «штрафную», догоняя провожающих старый год, друзей. Вернувшись в Москву, через три дня сплошного «гулянья», «поправив здоровье» пивком, я приступил к институтской жизни, напрочь забыв и странную старушку, и поразивший меня иконостас, и Иерусалимский Крест.
И, сейчас, взглянув на стенную роспись слева от меня, я вдруг увидел изображение святого в точно таком же капюшоне с передником расшитых крестами, и вся сцена со старушкой отчётливо встала перед моим внутренним взором.
— Клавдия Ивановна! — прошептал я — А, что это за одежда такая, вот на этом святом? Кто такую носит?
— Это Великая Схима, Лёшенька, — также тихо прошептала в ответ Клавдия Ивановна — носят её схимники, которые монахи высшего пострижения — Ангелы земные!
— Господи! — подумал я — сколько же раз призывал Ты меня, и как дивно! Как же я был глух и слеп! Прости меня, Господи!
Тем временем, левые двери алтаря отворились и из них на солею вышла целая процессия: впереди сосредоточенный и серьёзный, держа в руке лёгкий напольный подсвечник со вставленной в него высокой и толстой свечой, шёл именинник Серёжа, хрупкий и, какой-то весь светящийся. За ним, не менее сосредоточенный, громадный в своём сверкающем стихаре на фоне хрупкого Серёженьки, держа перед собой струящееся ароматным дымком ладана кадило, шествовал Семён. Флавиан замыкал шествие одетый, вместо торжественно блестящей ризы в длинную чёрную мантию, без рукавов, со множеством мелких складок по центру спины. Его крупную, слегка склонённую, голову венчал высокий монашеский клобук. Когда процессия спустилась с амвона, сзади к ней пристроились певчие, заранее спустившиеся с клироса и поющие на ходу, что-то призывно-покаянное. Народ в центре храма раздвинулся, освобождая место идущим, и вся процессия вышла в притвор. Я, было, потянулся перейти на другое место, откуда мне видно было бы происходящее в притворе, но что-то остановило меня, какая-то внутренняя неловкость — чего, мол, глазеть — не в театре же…