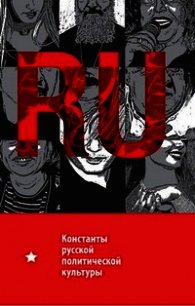Мир тропы. Очерки русской этнопсихологии - Андреев А. (полная версия книги .txt) 📗
Какое-то время Поханя удерживал звучание в Середке, а палец напротив этой точки, и мы гудели совместно, прерываясь лишь для того, чтобы набрать новую порцию воздуха. Затем его палец начал так же медленно опускаться ниже к солнечному сплетению. Это я уже, скорее, почувствовал внутри, чем увидел, потому что все вокруг вдруг начало меркнуть. Костер стал контрастным, словно нарисованный, а Поханя то пропадал, то появлялся снова, но совсем с другим лицом каждый раз. Я скосил глаза, посмотрел на тетю Катю и чуть не потерялся: вместо нее за мной наблюдала молодая красивая девчонка, которой я боялся, потому что почему-то посчитал ее колдуньей… Но мысли мои тут же оборвались, потому что загудело и завибрировало солнечное сплетение…
– Матерый волк должен быть ярым и лютым,- услышал я слова Похани и понял, что уже какое-то время гужу один. Я тут же напугался, что не удержу состояние, и сорвался – голос стал колебаться, как пламя свечи, и не хватило воздуха. Я перевел дыхание и остановился. Обычное видение медленно вернулось ко мне. Довольно долго я боялся, что голова будет кружиться, и я упаду, но все обошлось.
– Ну, ладно,- сказал Поханя,- наигрался?
– Да, вроде, хватит уже,- честно признался я,- Башка гудит… похоже, по завязочки.
– Тогда… – он посмотрел на тетю Катю, а потом подмигнул мне,- покажу одну вещицу… и идите домой тогда… по головешке возьмите только… чтоб темно не было в лесу-то.
– А ты?- спросил я, видя, что бабка молчит.
– Меня не ждите, я еще… поброжу… Пойдем.
Он вывел меня все на ту же дорогу и велел спуститься вниз.
Теперь луна была точно вверху над холмом, и его фигура была хорошо освещена на взгорке. Он приподнял руку и показал, чтобы я остановился. Я встал и почувствовал, что меня охватывает легкий трепет от наползающего ночного холодка. Поханя постоял немного на освещенном яркой луной взгорке меж слегка шевелящихся серебристо-черных стен деревьев и поманил меня рукой. Я медленно и спокойно пошел к нему наверх.
Он не двигался, хотя словно бы стал пониже. Ничего не происходило, только вдруг у меня задрожало ярло. Я подумал, что это ночная прохлада пробрала меня, и попытался унять эту дрожь, но тут вдруг на меня обрушилась нарастающая волна жуткого волчьего воя. Я едва удержался на ногах, Идти вперед не было никакой возможности, и я замер, позабыв себя. Поханя присел, пуская звук вниз по склону холма, а потом вой начал подыматься вверх, в небо, и у меня пришло ощущение, что я словно подымаюсь вместе с ним, а пригорок уходит из-под ног. Я хотел понять это, хотел включить пропавший разум и начал бороться с охватившим меня страхом. Но в этот миг тьма словно взорвалась там, где стоял Поханя, и он исчез. Просто пропал из глаз. А в следующий миг дорога была пуста и залита лунным светом. Кроме Похани все было по-прежнему: и холм, и деревья, и луна вверху… даже вой все еще звучал каким-то образом в пространстве! И он звучал, пока… у меня хватало воздуха. Только тогда я понял, что это мой вой! Почему-то я знал, что должен довести его до конца, удержал в этот раз колебания и из последних сил закончил, как учила тетя Катя.
Потом мы с ней еще посидели в молчании у костра, слушая, как со всех концов мира лают и воют деревенские собаки, и, так и не дождавшись Похани, побрели домой, дымя головешками. Я, честно говоря, еле волочил ноги.
По дороге до меня вдруг дошло, зачем Поханя велел нам взять головни, и я, пожалуй, даже с возмущением, спросил у нее:
– Теть Кать! Так это мы на себя, может, всех окрестных волков созвали?!
– Ну,- возмутительно спокойно ответила она.
– Как ну?!- уже почти разозлился я, догадываясь где-то внутри, что ничего страшного в действительности не происходит, а я просто нервничаю от переутомления.
Она, видимо, поняла мое состояние и своеобразно успокоила меня:
– Ну, придут. Ты же айкаешь! Отправишь обратно.
– Как, как?! Повабил – позвал, поайкал – послал?
– А что ты, не хозяин в лесу, что ли?!
Тогда меня поразила сама простота ее подхода, но впоследствии я много думал над ее словами. Мне кажется, именно с них начался настоящий перелом в моем отношении к тому, чему я учился. До этого я, несколько лет общаясь с нашими русскими знающими стариками, видел не их, а каких-то замаскированных даосских или буддийских мастеров, даже не замечая за своим восприятием этой погрешности. А тут мне вдруг стало ясно, что за всем этим угадываются следы древнейшего магического искусства, имя которому Кобь, а родина – Россия! И пропала необходимость внутренне приукрашивать старичков, приписывать им для пущей важности и собственного оправдания чуждые им образы. Мне ведь очень хотелось, когда я к ним шел, чтобы скрывающееся за ними знание было сопоставимо с Востоком. А тут вдруг стало само собой ясно, что оно и в самом деле сопоставимо, но только совсем другое! Мы так привыкли к собственной культуре, что наш глаз отказывается различать в ее обыденности следы былого величия и подлинной древности. Нам, русским, нужно стать чуточку иностранцами или научиться пристально приглядываться к самим себе. А о коби надо говорить отдельно.
БАБА ЛЮБА
После памятных слов тети Кати у меня многое из узнанного за годы учебы начало укладываться по-новому, и, по крайней мере, хотя бы в какое-то подобие цельной картины. Первое, что вспомнилось в связи с пением, были знания о постановке голоса вообще. Я употребляю слово "постановка" условно. На самом деле меня учили и требовали от меня сказывать, что бы я ни делал в Тропе.
И Степаныч, и Дядька всегда говорили со мной сказывая, хотя я этого и не замечал, поскольку это была самая естественная и захватывающая речь, какую мне только доводилось слышать. Рассказ сказителя воспринимается сразу в образах, словно разворачивающаяся в твоем мозгу серия живых картин, своего рода объемное психическое кино, где ты к тому же и участник. И это отнюдь не просто "образность", то есть красочность повествования в ораторском смысле слова. В образности сказителя есть своя психологическая "механика". Их слова были частенько грубы, резки или даже невнятны для стороннего слушателя. Но я всегда был захвачен любыми их словами, потому что они называли ими то, что в миг речения происходит в голове слушателя, то есть у меня. Иными словами, они облекали в слова ускользающее от тебя самого твое смутное мышление. Во время такого разговора постоянно присутствует ощущение, что сказитель всего на миг обгоняет тебя, высказывая то, что ты хотел бы сказать сам.
На языке Тропы это можно передать так: они разматывали самокат мышления сразу в двух головах – своей и собеседника. Поскольку самокат – это то, что в данный момент само рвется из тебя, но ты его сдерживаешь в силу привычки таиться, то такая беседа кажется проникновенной, захватывает и погружает не просто в самого себя, а в потрясающе интересного и неожиданного себя, который к тому же "болит". Сказанное сказителем становится не просто общим, это общее переживание. Способный сопереживать тебе непроизвольно признается внутренними защитами своим и пропускается в душевные тайники. После этого твое мышление наполняет его слова собственными смыслами и оживляет всеми имеющимися в его запасниках образами переживаний, да с такой силой оживляет, что ты в прямом смысле очарован!
Это может показаться похожим на телепатию, чтение мыслей или экстрасенсорику, но это не то. Они не читали мысли, их не интересовало содержание этого хлама. Они знали устройство мира и законы мышления, видели и чувствовали их так тонко, что могли говорить с человеком в соответствии с тем слоем сознания, в котором находилось в тот момент его мышление. У человека определенного общества и культуры все слои мышления уложены в самокате очень и очень сходно. При определенном опыте и ясности сознания вовсе не так уж трудно говорить за человека его сокровенные мысли, и не только бытовые, которые он прячет, чтобы быть неуязвимым, потому что у него есть враги. Можно ведь рассказать и ту сказку, которую он носит в себе и скрывает, потому что у него нет друзей…