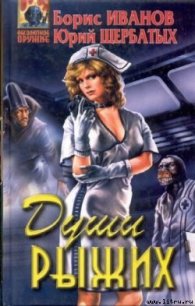Иванов катер. Не стреляйте белых лебедей. Самый последний день. Вы чье, старичье? Великолепная шесте - Васильев Борис Львович
Великолепная шестерка
Kони мчались в густом сумраке. Ветви хлестали по лицам всадников, с лошадиных морд капала пена, и свежий нешоссейный ветер туго надувал рубашки. И никакие автомашины, никакие скутера, никакие мотоциклы не шли сейчас ни в какое сравнение с этой ночной скачкой без дорог.
— Хелло, Вэл!
— Хелло, Стас!
Пришпорь, Роки, своего скакуна! Погоня, погоня, погоня! У тебя заряжен винчестер, Дэн? Вперед, вперед, только вперед! Вперед, Вит, вперед, Эдди! Приготовь кольт и вонзи шпоры в бока: мы должны уйти от шерифа!
Что может быть лучше топота копыт и бешеной скачки в никуда? И что из того, что худым мальчишеским задам больно биться о костлявые хребты неоседланных лошадей? Что из того, что лошадиный галоп тяжел и неуверен? Что из того, что лошадиные сердца выламывают ребра, из пересохших глоток рвется надсадный хрип, а пена стала розовой от крови? Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?
— Стой! Да стой же, мустанг, тпру!.. Ребята, отсюда — через овраг. Дырка за читалкой, и мы — дома.
— Ты молодец, Роки.
— Да, клевое дельце.
— А что делать с лошадьми?
— Завтра еще покатаемся.
— Завтра — конец смены, Эдди.
— Ну так что? Автобусы наверняка придут после обеда!
Автобусы из города пришли за второй лагерной сменой после завтрака. Водители торопили со сборами, демонстративно сигналя. Вожатые отрядов нервничали, ругались, пересчитывали детей. И с огромным облегчением вздохнули, когда автобусы, рявкнув клаксонами, тронулись в путь.
— Прекрасная смена, — отметила начальник лагеря Кира Сергеевна. — Теперь можно и отдохнуть. Как там у нас с шашлыками?
Кира Сергеевна не говорила, а отмечала, не улыбалась, а выражала одобрение, не ругала, а воспитывала. Она была опытным руководителем: умела подбирать работников, сносно кормить детей и избегать неприятностей. И всегда боролась. Боролась за первое место, за лучшую самодеятельность, за наглядную агитацию, за чистоту лагеря, чистоту помыслов и чистоту тел. Она была устремлена на борьбу, как обломок кирпича в нацеленной рогатке, и, кроме борьбы, ни о чем не желала думать: это был смысл всей ее жизни, ее реальный, лично ощутимый вклад в общенародное дело. Она не щадила ни себя, ни людей, требовала и убеждала, настаивала и утверждала и высшей наградой считала право отчитаться на бюро райкома как лучший руководитель пионерского лагеря минувшего сезона. Трижды она добивалась этой чести и не без оснований полагала, что и этот год не обманет ее надежд. И оценка «прекрасная смена» означала, что дети ничего не сломали, ничего не натворили, ничего не испортили, не разбежались и не подцепили заболеваний, из-за которых могли бы снизиться показатели ее лагеря. И она тут же выбросила из головы эту «прекрасную смену», потому что прибыла новая, третья смена и ее лагерь вступил в последний круг испытаний.
Через неделю после начала этого завершающего этапа в лагерь приехала милиция. Кира Сергеевна проверяла пищеблок, когда доложили. И это было настолько невероятно, настолько дико и нелепо применительно к ее лагерю, что Кира Сергеевна рассердилась.
— Наверняка из-за каких-то пустяков, — говорила она по пути в собственный кабинет. — А потом будут целый год упоминать, что наш лагерь посещала милиция. Вот так, мимоходом беспокоят людей, сеют слухи, кладут пятно.
— Да, да, — преданно поддакивала старшая пионервожатая с бюстом, самой природой предназначенным для наград, а пока носившим алый галстук параллельно земле. — Вы абсолютно правы, абсолютно. Врываться в детское учреждение…
— Пригласите физрука, — распорядилась Кира Сергеевна. — На всякий случай.
Покачивая галстуком, «бюст» бросился исполнять, а Кира Сергеевна остановилась перед собственным кабинетом, сочиняя отповедь в адрес бестактных блюстителей порядка. Подготовив тезисы, оправила идеально закрытое, напоминающее форму темное платье и решительно распахнула дверь.
— В чем дело, товарищи? — строго начала она. — Без телефонного предупреждения врываетесь в детское учреждение…
— Извините.
У окна стоял милицейский лейтенант настолько юного вида, что Кира Сергеевна не удивилась бы, увидев его в составе первого звена старшего отряда. Лейтенант неуверенно поклонился, глянув при этом на диван. Кира Сергеевна посмотрела туда же и с недоумением обнаружила маленького, худого, облезлого старичка в синтетической, застегнутой на все пуговицы рубашке. Тяжелый орден Отечественной войны выглядел на этой рубашке столь нелепо, что Кира Сергеевна зажмурилась и потрясла головой в надежде все же увидеть на старике пиджак, а не только мятые штаны да легкую рубаху с увесистым боевым орденом. Но и при вторичном взгляде ничего в старике не изменилось, и начальник лагеря поспешно уселась в собственное кресло, дабы обрести вдруг утраченное равновесие духа.
— Вы — Кира Сергеевна? — спросил лейтенант. — Я участковый инспектор, решил познакомиться. Конечно, раньше следовало, да все откладывал, а теперь…
Лейтенант старательно и негромко излагал причины своего появления, а Кира Сергеевна, слыша его, улавливала лишь отдельные слова: заслуженный фронтовик, списанное имущество, воспитание, лошади, дети. Она смотрела на старого инвалида с орденом на рубашке, не понимая, зачем он тут, и чувствовала, что старик этот, в упор глядя беспрестанно моргающими глазками, не видит ее точно так же, как она сама не слышит милиционера. И это раздражало ее, выбивало из колеи, а потому пугало. И она боялась сейчас не чего-то определенного — не милиции, не старика, не новостей, — а того, что испугалась. Страх нарастал от сознания, что он возник, и Кира Сергеевна растерялась и даже хотела спросить, что это за старик, зачем он здесь и почему так смотрит. Но эти вопросы прозвучали бы слишком по-женски, и Кира Сергеевна тут же задавила робко трепыхнувшиеся в ней слова. И с облегчением расслабилась, когда в кабинет вошли старшая пионервожатая и физрук.
— Повторите, — строго сказала она, заставив себя отвести глаза от свисающего с нейлоновой рубашки ордена. — Самую суть, коротко и доступно.
Лейтенант смешался. Достал платок, вытер лоб, повертел форменную фуражку.
— Собственно говоря, инвалид войны, — растерянно сказал он.
Кира Сергеевна сразу почувствовала эту растерянность, этот ч у ж о й страх, и ее собственная боязнь, ее собственная растерянность тут же исчезли без следа. Все отныне встало на место, и разговором теперь управляла она.
— Скудно выражаете мысли.
Милиционер посмотрел на нее, усмехнулся.
— Сейчас богаче изложу. У почетного колхозного пенсионера, героя войны Петра Дементьевича Прокудова угнали шестерых лошадей. И по всем данным, угнали пионеры вашего лагеря.
Он замолчал, и молчали все. Новость была ошарашивающей, грозила нешуточными осложнениями, даже неприятностями, и руководители лагеря думали сейчас, как бы увернуться, отвести обвинение, доказать чужую ошибку.
— Конечно, кони теперь без надобности, — вдруг забормотал старик, при каждом слове двигая большими ступнями. — Машины теперь по шаше, по воздуху и по телевизору. Конечно, отвыкли. Раньше вон мальчонка собственный кусок недоедал — коню нес. Он твой хлебушко хрумкает, а у тебя в животе урчит. С голодухи. А как же? Все есть хотят. Это машины не хотят, а кони хотят. А где же возьмут? Что дашь, то и едят.
Лейтенант невозмутимо выслушал это бормотание, но женщинам стало не по себе — даже физрук заметил. А был он человеком веселым, твердо знал, что дважды два — четыре, а потому и сохранял в здоровом теле здоровый дух. И всегда рвался защищать женщин.
— Чего мелешь-то, старина? — добродушно улыбнувшись, сказал он. — «Шаше», «шаше»! Говорить бы сперва выучился.
— Он контуженый, — глядя в сторону, тихо пояснил лейтенант.
— А мы не медкомиссия, товарищ лейтенант. Мы — детский оздоровительный комплекс, — внушительно сказал физрук. — Почему считаете, что наши ребята угнали лошадей? У нас современные дети, интересуются спортом, электроникой, машинами, а совсем не вашими одрами.