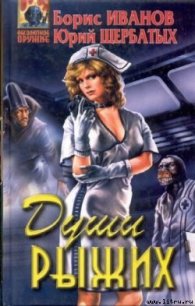Иванов катер. Не стреляйте белых лебедей. Самый последний день. Вы чье, старичье? Великолепная шесте - Васильев Борис Львович
— Жизнь это, понял — нет?
— Жизнь, — подтвердил Глушков, и две жалких слезинки дробно стукнулись о страницу.
Не одному Касьяну Нефедовичу неуютно было в тот вечер. Дед Сидоренко к этакому был привычен, а Валька, буйно празднуя взрывы собственной страсти, искренне полагала, что все вокруг должны радоваться ее счастью и что прятать тут абсолютно нечего. Но Андрей ощущал некоторое смущение, а потому пришел на кухню с початой бутылкой.
— За нашу Вальку, отцы. Хорошая она баба, и вы на нее не серчайте.
— Внучка в меня вся, понял — нет? — ненатурально взбодрился Багорыч, ощутив в руке стакан. — Мировая она, понял — нет?
Он шумел и суетился, а дедуня молчал. И Андрей, поддакивая деду Сидоренко, чувствовал какую-то вину именно перед Касьяном Нефедовичем.
— Это точно, что мировая, — говорил он. — Остальные там придуриваются, изображают чего-то, а Валька наша ничего не изображает. Она вся — как есть, как в натуре.
— Правильно! — кричал Багорыч. — Она вся в меня, хоть знак качества ставь. Счастье тебе подвалило, парень, сильное счастье.
— Подвалило, — согласился Андрей, опять поглядев на деда Глушкова. — Знаешь, как в тюряге посидишь, так это особо ценишь.
— В тюряге? — Сидоренко похмурился, соображая. — Ты погоди-погоди, какая такая?
— Нормальная. Я, отцы, четыре года в общей колонии отбухал. Хищение государственного имущества. Каток для асфальта на спор с завода угнал.
Про это старики ничего не знали. Даже дедуня маленько очухался и поглядел на Андрея с испугом. Но и здесь промолчал.
— А-а…— протянул Пал Егорыч. — Страшно, поди?
— Да чего же там страшного? — усмехнулся парень. — Крыша над головой имеется, жратва три раза в день. Ну, баня, кино.
— Кино? — поразился Багорыч. — Преступникам — и кино?
— Нормально, как у людей. А в воспитательной части телевизор есть. Олимпиаду смотрели, за «Спартак» болеем.
— За «Спартак»?! — Багорыч вскочил, повертелся в тесной кухоньке и опять сел. — Нет, скажи, что врешь. Скажи, что врешь, а?
Вот в этом месте Глушков и подал впервые голос. Сказал с горечью:
— Молодым везде хорошо.
11
С этого вечера Касьян Нефедович стал задумчивым. Он всегда был тих и безответен, но теперь эти качества приобрели некий новый ракурс, будто дед сменил созерцание жизни на попытку ее осмысления. Но то ли этот процесс был для него непривычен, то ли мыслей никаких не возникало, и только о результатах он не говорил никому. Просто смотрел задумчивыми телячьими глазами, молчал, и неизвестно было, скажет ли чего вообще. А у соседа в ответ на его: «Ну как, дед, насчёт свиданьица со старухой?» — спросил вдруг:
— А коли б жилплощадь была, так еще бы ребеночка родили? Или побоялись бы?
Арнольд Ермилович поперхнулся, прокашлялся и признался:
— Двоих.
Спохватился, что по-человечески ответил, забормотал про архангелов, но дед уж и не слушал его.
— Счастливые, которые с детьми. Очень счастливые. — Вздохнул, надел шапку. — Двоих, значит, обещался. Это хорошо. — И пошел мимо онемевшего соседа на улицу.
Друга он нашел на пустыре, где было ветрено и сыро. Но Багорыч к тому времени принял семь полубульков в оплату за стакан и гордо не замечал продырявленного климата. Физиономия его горела несогласием, кепку он тискал в единственной руке и норовил встать на асфальтовую глыбу, но ноги с этим не соглашались.
— Ворюгам — кино, а заслуженному человеку… Нет, это надо у милиции справиться.
Милиция звалась Валерианом и должна была прибыть на мотоцикле по окончании торгового дня. Услышав рев мотора и накинув три часа, деды вышли наперехват. И вскоре действительно показался Валериан.
— Баб много, а я один! — с невероятным торжеством объявил он.
Старики не дали ему развить эту тему, тут же поведав о рассказе Андрея.
— Чудаки старики! — радостно засмеялся Валериан, легкий после чудных мгновений, как олимпийский мишка. — А гуманизм?
— Чего? — переглянулись приятели.
— Гуманизм! — Он важно поднял палец. — Пояснить?
— Пояснить, — попросил дедуня Глушков.
— Гуманизм — это что такое? Это поддержка слабого, — неторопливо и вразумительно, чтоб дошло до стариков, начал Валериан. — При царе, скажем, или при капитализме какой закон действует? Закон джунглей, понятно? А у нас какой? Закон гуманизма. Разницу улавливаете?
— А я слабый? — спросил Касьян Нефедонич.
— Ты? — Милиционер внимательно осмотрел щуплого — и в чем только душа трепыхалась! — дедуню и сказал: — А это пока неизвестно.
— А когда известно? — допытывался Глушков. — Когда, это, с почетом понесут?
Милиционер огорченно вздохнул и с досадой покрутил круглой, как футбольный мяч, головой.
— Действие совершить надо, действие! Это ихний гуманизм бездейственный, а наш — действенный. Советский гуманизм в действии — читали в газетах? Ох и темные же вы, деды!
Завел мотоцикл и уехал.
— Глупой! — заорал Багорыч, когда мотоциклетный грохот затих в дальних кварталах. — Наболтал и уехал. И не объяснил ведь!
— Объяснил, — тихо сказал дедуня Глушков, посмотрев на друга телячьими глазами. — Все он объяснил. Действие нужно, понял? Действие.
12
Действие зреет долго, и чем старше человек, тем медленнее оно зреет, путаясь в усталой душе, блукая в сумерках размышлений, то представляясь ясным, то вдруг ныряя в беспросветный туман прожитого. Тогда дед Сидоренко, громко поминая всех угодников, спешил за своими законными полубульками, и дедуня Глушков оставался один. Тоскливо бродил по улицам и переулкам в бессознательной надежде встретить Валечку, а если случалось это, без оглядки семенил прочь. И все было ладно, да как-то отнялись ноги у Касьяна Нефедовича. Забастовали и отказались унести его в закоулок.
— Ты чего тут, дедунь?
Дедуня молча пристроился сбоку, тщетно пытаясь попасть в такт летящей женской походке. Валька что-то говорила, но он не слушал — глядел под ноги и семенил. А потом сказал:
— Истинную правду скажешь мне?
— А когда это я тебя обманывала?
— Теперь что соврать, что правду сказать — все одно, разницу утеряли. А ты вспомни, что есть разница, вспомни, а?
— Чудной ты какой-то, дедуня. Не захворал?
— Разница есть, Валечка, — шепотом сказал он. — Коли б я в бога верил, мне, может, много бы легче было, но безбожный я. Безбожный человек.
— Ничего я не поняла, — строго сказала Валентина, останавливаясь. — Что натворили? Говори сейчас же,
Дед Глушков помялся, посопел, пряча глаза. А потом глянул в упор, с духом собравшись, и спросил:
— За Андрея пошла бы?
— Ох, побежала бы!..
— А чего ж не бежишь? — Он подождал, но Валька только неуверенно улыбнулась. — Потому не бежишь, что дед твой Пал Егорыч вам мешает. Не спорь, не спорь, не надо, я ему ни полсловечка не скажу, а только давай сегодня всю истинную правду. Уморился я без нее. Уморился.
— Может, квартиру разменяем, — безнадежно вздохнули она. — Если Андрея к бывшей его жене пропишут.
— Да, — вздохнул и дедуня. — Умирали б мы вместо пенсии…
Грызла тоска стариков. Точила как червь, неутомимо и невидимо; Багорыч с нею полубульками боролся, ерничеством да показной разудалостью, а Касьян Нефедович по улицам бегал. Кружил по поселку, по новым микрорайонам, расширял свои кольца, точно надеялся запутать, замотать тоску свою. И однажды вышел к почтамту. Шел дождь, и старик вошел в здание и сел у стола, где граждане писали письма. Посидел, подумал, а потом попросил вдруг лист бумаги, взял ручку и неуверенно, на каждой букве спотыкаясь, начал: «Добрый день вам, Анна Семеновна, дорогая Нюра…» Думал, что долго будет писать, что, может, совсем не напишет даже, но письмо написалось одним махом и почти без помарок. Вывел адрес, опустил в ящик и пошел искать Багорыча.
Багорыч на спор на троих не глядя разливал, на полубульку зарабатывая. Дед Глушков отобрал у него бутылку, сунул ее владельцу и повел приятеля в сторону. Приятель орал и вырывался, а дед сказал: