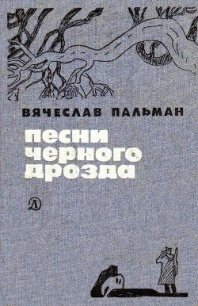Порою блажь великая - Кизи Кен Элтон (книга бесплатный формат .TXT) 📗
…Идешь вдоль стены, смазывая плечом бусинки свежей смолы, самоцветами высыпавшие на свежей древесине. Идешь медленно…
В самые сильные холода семья жила в городе, в лавке кормов, а в остальное время — в большой палатке на том берегу, где они строили дом, который, как и все на той земле, рос и рос месяц за месяцем — с неторопливым, немым упорством, будто наперекор всему, чем Йонас мог замедлить этот рост. Самый дом начинал угнетать Йонаса. Чем больше он становился, тем больше росли отчаяние и безысходность Йонаса. Вот стоит на берегу это проклятое строение, огромное, некрашеное, без души, без Бога. С не застекленными окнами дом напоминал деревянный череп, взирающий на катящую мимо реку черными глазницами. Больше похожий на гробницу, нежели на дом. Больше похожий на обитель мертвых, думал Йонас, нежели на место, где «жизнь начать с начала». Ибо земля эта была пропитана смертью, эта изобильная земля, где деревья росли на глазах, где Йонас сам видел, как гриб проклюнулся сквозь тушку утопшего бобра и уже через несколько неуловимых часов распростерся над нею своей шляпкой, — эта благодатная земля сплошь пропитана влажной и жуткой смертью.
— Бать, ей-богу, вы какой-то в край затурканный, точно говорю. Хотите, заскочу к Гриссому за вашими солями, когда в городе буду?
Пропитана и переполнена! Чувство это преследовало Йонаса наяву и кошмарами терзало по ночам. О, Иисусе, свет животворящий, — наполни мрак. Его душило. Его топило. Ему казалось, что как-нибудь он проснется туманным утром с глазами, поросшими мхом, а одна из дьявольских поганок в этой хмари прободеет его собственную грудь.
— Нет!
— Что, бать?
— Я сказал, не надо солей. Лучше — чтобы заснуть! Или проснуться! Или — или чтоб развеять эту хмарь! — …свисающую с рук-суков серыми затхлыми стягами. Во сне скользишь вдоль дощатой стены, глаза шарят по зашторенному утру… Слизни выводят на досках блестящие в ночи письмена. Этот шиповник говорит тебе о чем-то многими своими медленными пальцами… о чем? о чем? Постное лицо его клонится, вырванное из сна, а он идет вдоль стены, он подносит руку ко рту, где поседевшие усы щетинятся гвоздями. Вот он останавливается, рука по-прежнему поднята, лицо по-прежнему склонено. И подается вперед, тянет шею, силясь различить нечто в нескольких ярдах впереди. Туман, устилающий реку, задрал уголок, разверзся маленьким круглым окошком. В эту брешь Йонас видит, что за ночь в берегу появилась еще одна вымоинка. Еще несколько дюймов грунта сгинули в реке. От этой вымоинки — и тот шипящий присвист: так река с восторженной невинностью взасос целует берег, отрывая от него новые кусочки. Йонас смотрит и вдруг его осеняет, что это не берег уступает дорогу реке, как можно подумать. Нет. Это река разрастается вширь. И через сколько же зим своенравное течение доберется до фундамента, подле которого стоит сейчас Йонас? Десять лет? Двадцать? Сорок? Да какая, в сущности, разница?
(Ровно сорок лет спустя на мол неподалеку от рыболовной станции заехала машина. Автомобильное радио разбрасывало гнусавые переборы хилбилли над бухтой, усеянной чайками. Два моряка на побывке после тихоокеанского похода травили своим ахающим зазнобам несусветные байки о зверствах япошек. Вдруг морячок на переднем сиденье замолк и ткнул пальцем в желтый пикап, застывший на косогоре у самого края воды:
— Гляньте-ка, уж не старик ли это Генри Стэмпер со своим сынком Хэнком? Что это за хрень у них в кузове?)
Будто во сне, по-прежнему пялясь вниз, на вымоину, Йонас проводит языком по шляпкам гвоздей, что у него во рту. Хочет вернуться к дому, но снова замирает, и лицо его озадаченно хмурится. Он берет один из гвоздей квадратной ковки и подносит к глазам. Гвоздь тронут ржавчиной. Рассматривает другой гвоздь — там еще больше ржавчины. По очереди он берет гвозди изо рта и смотрит на них, подолгу вглядывается: легкая присыпь ржавчины уже пометила металл, подобно грибку. А ведь ночью дождя не было. На самом-то деле выдалось целых два невероятных дня без дождя, потому-то он и не потрудился накрыть короб с гвоздями крышкой после вчерашней работы. Но с дождем или без, а гвозди поржавели. За ночь. Целый короб, пришедший из самого Питтсбурга… четыре недели в пути — и сияли, что серебряные монетки… и поржавели за ночь…
— Ей-ей, а знаешь — похоже на гроб! — воскликнул моряк.
…Итак, кивая самому себе, он бросает гвозди в короб и кладет молоток на росистую траву, затем идет едва ли не по пояс в тумане к реке, садится в лодку и гребет на тот берег, где под навесом у грунтовки живет кобыла. И забирается на кобылу, и скачет обратно в Канзас, к сухим, дощато-ровным прериям, где полынь сражается за худосочную почву, где степные зайцы грызут колючие бочонки кактусов в поисках влаги, а гниение — неспешное и незаметное под небом из жженого кирпича.
— Точно гроб! В контейнере, навроде железнодорожного.
— О, глянь, чего они делают!
Другой моряк и его подруга тотчас выпутались из объятий, и все четверо принялись глазеть, как мужчина и мальчик на пристани выгружают что-то из своего пикапа, волокут это что-то по доскам, сваливают это что-то в воду бухты, затем возвращаются к пикапу и уезжают. Моряки и две их девушки сидели в машине, наблюдали, как ящик покачивается и медленно, долгие минуты, тонет. И под пение Эдди Арнольда:
ящик грузно накренился и окончательно исчез под водой, оставив по себе расходящиеся круги и поминальные пузырьки, ушел вниз, в ил и водоросли, чьи зелено-бурые и лилово-бурые склизко-резиновые авеню патрулируются крабами с глазами на стебельках, караулящими унылое скопище бутылок, старых труб, холодильников, сдутых шин, потерянных навесных моторов, битого фаянса и прочих мусорных декораций дна бухты.
В пикапе, откатившем от причала, некрупный, но туго скрученный мужчина с бутылочно-зелеными глазами и седеющими волосами пытался унять любопытство своего шестнадцатилетнего сына воспитательными щелчками по кумполу:
— Ты о чем, Хэнки? Не прочь прокатиться в Куз-бэй и присмотреть за своим стариком, чтоб не нарезался, а? За мной глаз да глаз — и трезвый, что твой ватерпас!
— А что там было, папа? — спросил мальчик (даже не догадывался тогда, что это гроб…).
— Где — там?
— В том здоровом ящике.
Генри засмеялся:
— Мясо. Старое мясо: я не хотел, чтоб оно провоняло всю округу.
Мальчик украдкой глянул на отца — (Старое мясо, говорит… Папа сказал… А я ведь ни о чем таком и не догадывался, грешно сказать, еще сколько-то месяцев, пока не заявился Мозгляк Стоукс — он тут у нас в городе вроде как «старый каркун» — так вот, он был у нас дома с визитом, отвел меня в уголок, и мы сидели с ним добрых полчаса — недобрых полчаса, — я весь извертелся, а он всю дорогу лапал меня своими потными грабками — то на колено положит, то за руку схватит, то по головке погладит, то еще где, куда дотянется — будто никак не успокоится, покуда не пересажает на меня всех бацилл, которыми торгует.
— Ах, Хэнк, Хэнк, — говорил он, тряся головой на шее, которая у него не толще его костлявого запястья. — Мне это очень неприятно, но мой христианский долг — поведать тебе тягостную правду жизни. — «Неприятно» — вот ведь трепло. Да он как вурдалак: все кости перемоет-разгрызет, вместо того, чтоб с ходу, без обиняков выложить. — Правду о том, кто был в ящике. Да, я уверен, что кто-то должен поведать тебе про твоего дедушку, про его первые годы в этих краях…) — но ничего не сказал. Они ехали молча.
(— …в те первые годы, Хэнк, дитя мое… — Старик Стоукс откинулся назад и глаза его подернулись поволокой. — …все было не так, как нынче. Твоя семья пока еще не имела больших лесозаготовок. Да… Да, твоя семья, можно сказать, страдала от ужасных злосчастий… в ту пору…)
11
«Дым над водой» («Smoke on the Waters». 1944) — песня Зика Клементса на слова Уолтера Ленка, впервые записанная кантри-исполнителем Редом Фоули.