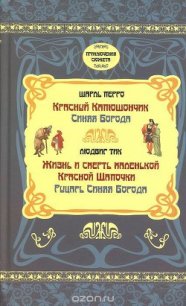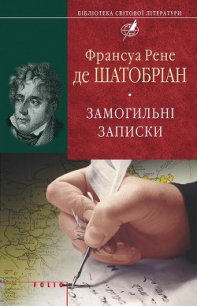Русачки (Les Russkoffs) - Каванна Франсуа (книги без регистрации бесплатно полностью TXT) 📗
— Сейчас вас всех, здешних, посадят на поезд. Вот этот тип — ваш начальник. Парни возле него — надзиратели. Не знаю, насколько там, куда вы едете, будет лучше, чем здесь. Полагаю, не хуже. Lebe wohl, ihr Filou! [36]
Наш «начальник» — огромный пышущий здоровьем дылда, штатский, но измученный военной ностальгией, как и все они здесь. Зеленоватый, подпоясанный ремнем китель, полный зверски мужественных карманов, галифе, рыжеватые сапоги, белый полувер, а поверх — тирольская шапочка с перышком, айда! В руке стек, — да, да, клянусь вам! — которым он нет-нет да хлестнет по своим сапогам, когда вспоминает, что у него есть стек. Вид у него скорее большой рохли, играющей перед самим собой кино мелкоземельного помещика с моноклем. Его подручные — чехи, но не судетские, а настоящие, чехи-славяне, и им довольно хреново здесь. Сразу чувствуется, что железной дисциплины не будет.
Ожидались вагоны для скота. Ан нет — подали настоящий поезд, купейный. Состав бесконечный, аж километра три, набитый вплоть до багажных сеток пестрыми образчиками человеческого материала, и это напоминает доброе старое время, когда триумфальный вермахт соскабливал всю Европу до кости. Европа теперь почти повсюду освобождена от вермахта, но европейцы все еще здесь, попали они в западню, Германия сужается вокруг них, у Германии были глаза завидущие, татарское становище превратилось в подземные переходы метро Шатле {112} в часы пик.
Погрузке нашей орды с фирмы Грэтц железнодорожники, похоже, удивлены. Как будто мы не были предусмотрены. Парни из Рейхсбана {113} не успевают поворачиваться, нас, впрочем, грузят даже не на вокзале, — вокзал разрушен, — а в пригороде, где-то на северной стороне Берлина.
Раз уж такое дело — и вагонов прицепят столько, сколько нужно, вагонов хватает. В последнее время от быстрой усадки площади Третьего Рейха огромное количество вагонов, стянутых со всей Европы и скопившихся здесь, не так уж часто имеют возможность размять свои колеса. Топаем в конец поезда, черте куда, ворчим, конечно. Бабы горделиво несут на головах свои узелки, как в колхозе, идут босыми, для равновесия большой палец ноги ощупывает почву впереди, как дозорный, а сабо их отдыхают на узелке, они шагают, выпятив грудь, подбоченясь, с осанкой королевы, — так вот какой-нибудь поэт-путешественник описывает негритянок, которые прут на своем шиньоне ванну, стол для бриджа, виски, походную пушку и ящики со снарядами. Мария гордо сжимает ручку своего цивилизованного чемодана. Я на своем тесемки пристроил, чтобы нести его как рюкзак, на спине, — все еще тот самый мамин девичий чемодан, который пережил на моих плечах массовый исход в июне сорокового.
И вот нас разместили, вся фирма Грэтц вместе, в купе — одни кореши, Мария прижалась ко мне у окна, по ходу поезда, а вместе с ней: Анна, Шура-Маленькая, здоровая повариха, имя которой я систематически забываю, та, что с железными зубами; плотно прижавшись, греем друг друга, начинает сильно шибать в нос знакомым русским запахом мокрой псины, знакомым запахом старого ватина, который никогда не просыхает насквозь… Ляшез неизвестно откуда вынимает плитку эрзац-меда, которую он выменял неизвестно у кого, неизвестно на что, Пикамиль или еще кто-то размахивает флягой с вином, которую он выменял у итальянского военнопленного на часы без стрелок, но итальянец ему объяснил, что стрелки он вырежет из лезвия бритвы, ну ладно, почему бы и нет, если ему уж так нужно знать время, Мария вытаскивает из-за пазухи большой узелок семечек: «Vot chokolat!», Женя-Большая, девица с кухни — ну вот и вспомнил, Женей ее зовут! — вытаскивает из-под юбки хитроумно скроенную котомку, типа универмажной воровки, оттуда она достает ломтики черного хлеба и порции маргарина… Ну и пошла гульба, праздник! Это наше свадебное путешествие, Мариино и мое.
Ну вот, мы в Померании, в населенном пункте под названием Церрентин, в тридцати километрах к западу от Штеттина. Сюда-то и привезли нас рыть ямы, чтобы остановить русских.
Русские уже в Штеттине. Не сегодня-завтра — бросок. Наши траншеи должны быть готовы. Танки Красной Армии нырнут туда носом — и будь здоров: наступление будет остановлено сразу. Красные солдатики зарыдают перед их страшенными танками, застрявшими задницей кверху, — и Сталин будет молить о мире. Таков наверняка план Верховного штаба вермахта, поскольку во всей округе не видно ни одного немецкого солдафона. Ни малейшего перемещения войск, ни одного грузовика снабженцев, ни даже нарочного на мотоцикле. Практически в униформе только несколько дылд из Организацион Тодт,которые расставляют колышки по песчаной равнине, чтобы очертить линию наших фортификационных работ.
Померания плоская, до бесконечности. Кругом песок. Реки, болота, леса. Степи с худосочной травой, то есть это я их называю степями, от этого слова у меня мурашки по коже. Вообще-то, правда, отлично помню, в географии сказано, что степь — это когда пучки травы растут не подряд, а между ними просвечивает земля. Здесь как раз так и есть, только земля тут песок. Я начинаю думать, что вся Германия состоит из песка. Быть землекопом в подобном месте — просто малина. Не то, что в моем пригороде, где кругом одна клейкая глина и здоровые каменюки.
Церрентин совсем маленький. Всего две-три красивых фермы, очень опрятных, несколько домишек бедных крестьян, церковь, школа. Нас разместили в школе, в классе Закона Божьего. Нас, то есть французов. Русачки, те пусть сами выкручиваются. И выкрутились-таки, русачки эти: огромный амбар, невероятно высокий, а в нем огромнейший стог сена. Стог сена поднимается аж до крыши амбара, видно амбар общинный или какая-нибудь кооперативная хреновина, вроде как все сено с округи собрали здесь. И вот бабы прорыли себе норки в сене, в вертикальных стенах этой кучи, в середине амбара, они запихиваются в эти норки, каждая в свою, — только головки торчат, — тепло и уютно им там, все эти головки, торчащие из сена, как гнезда ласточек, прилепившиеся к скале, какая прелесть!
Естественно, я сплю здесь, у меня своя норка, с Марией внутри, так смешно и так хорошо это, мы жмемся друг к другу, глядим друг на друга и ржем, ржем до упаду.
А вечером, каждый вечер, русачки поют. Здесь никто им не досаждает, французы — аж на другом конце, в своей школе, в своей ризнице. Местные немцы, — несколько стариков и женщин, дети эвакуированы, — собираются вокруг амбара послушать, как русские поют в ночи. Они садятся на землю, раскуривают свои трубки, не говорят ни слова, но я знаю, что крупные слезы текут у них по щекам, а потом незаметно уходят. Завтра Красная Армия будет здесь.
Никогда еще девчата не пели так. В огромной балтийской ночи они отдаются душой и телом, как отдаются в любви, как кончают с собой. Они опьяняются красотой, они бредят экстазом в преддверии этого зияющего завтра, черного, этого неминуемого завтра, которое все изменит, зверски, — но никто не знает, что именно, никто не знает, как.
Завтра мы будем свободны. Завтра мы будем мертвы. Возможно все. Самое возможное из всего — это смерть. Она будет сыпаться отовсюду. Русские, — может такое быть тоже, — нас всех расстреляют. Или немцы, — а почему бы и нет, — перед своим бегством. А перед этим будут бои, будут яростные бои, мы зажаты между обоими. Может быть, мы послужим им свинками, только не трюфеля добывать — взрывать минные поля… Возможно все.
Каким бы ни было это завтра — но завтра будет другим. Конец этого дерьма, во всяком случае. Даже если потом будет другое дерьмо, еще хуже, даже если потом будет смерть. Оно будет другим. Все рушится, кругом один страх, надежда, ожидание. Завтра будет огромным.
А пока завтра переводит свое дыхание, готовясь обрушиться нам на голову. Время зависло. Даже война забылась. Больше нет бомб, ни днем, ни ночью. Мы дрыхнем ночами, как старперы. Американцы не лупят по фортификационным работам, они предпочитают бомбить города, плотно набитые населением. Русские, кстати, тоже уже не бомбят. Хотя и четко следят за всем, что мы делаем. По несколько раз в день один из их разведывательных самолетиков, какой-нибудь «Як» или «Рата», пролетает на бреющем над нашими головами, забавляется иногда мертвыми петлями, мы орем ему: «Ур-ра!», машем своими лохмотьями на ветру, парни из Организацион Тодтпожимают плечами и просто ворчат: «Los! Los! Zur Arbeit, Mensch!» Вроде не очень-то доверяют своим чудодейственным рвам…
36
Прощайте, канальи! (Прим. пер.)